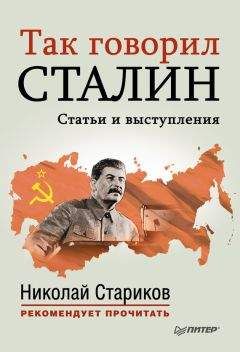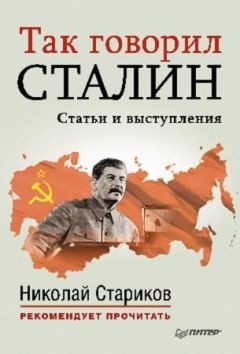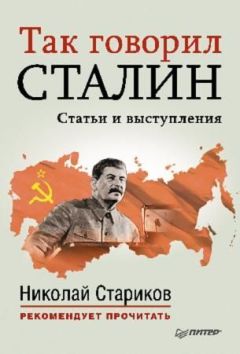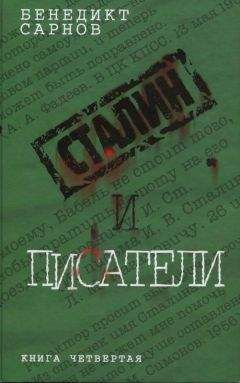Бенедикт Сарнов - Сталин и писатели Книга первая
В отличие от жены я к тому же прекрасно понимал, что, произнося эти слова, так открыто идущие вразрез с тем, что ежедневно неслось в мир с этих же самых страниц, Эренбург проявляет недюжинную, может быть, даже отчаянную смелость.
Но ведь в этом-то как раз и состояла вся макиавеллиевская гениальность сталинского сценария.
В своих мемуарах Эренбург рассказывает, что вел себя в той непростой для него ситуации не больно законопослушно. Даже строптиво:
Григорьян пригласил меня к себе, заговорил о вручении премии: «Хорошо, если вы упомянете о врачах-преступниках…» Я вышел из себя, сказал, что не просил премии, готов хоть сейчас от нее отказаться, но о врачах говорить не буду. Мой собеседник начал меня успокаивать: «Это не директива, просто я хотел вам подсказать…»
О своей речи на церемонии вручения Эренбург вспоминает так:
Речь была короткой. Я сказал: «Каково бы ни было национальное происхождение того или иного советского человека, он прежде всего патриот своей родины и он подлинный интернационалист, противник расовой или национальной дискриминации, ревнитель братства…»
Эти слова были продиктованы событиями, и я снова вернулся к тому, что меня мучило: «На этом торжестве в белом парадном зале Кремля я хочу вспомнить тех сторонников мира, которых преследуют, мучают, травят, я хочу сказать про ночь тюрем, про допросы, суды — про мужество многих и многих…» В Свердловском зале было тихо, очень тихо. Люба потом рассказала, что, когда я сказал о тюрьмах, сидевшие рядом с нею замерли. На следующее утро я увидел в газете мою речь выправленной — к словам о преследовании вставили «силы реакции»: боялись, что читатели могут правильно понять мои слова и отнести их к жертвам Берии.
Так оно все и было. Он не лгал, говорил правду. Не всю, конечно, правду (всю тогда сказать он еще не мог: недаром же назвал арестованных врачей жертвами Берии, а не Сталина, хотя прекрасно знал, кто был главным сценаристом и режиссером этого спектакля), но — правду.
Сути дела это, однако, не меняло.
Хуже того! Чем свободнее, чем смелее, чем непокорнее вел он себя на той высокой трибуне, чем больше позволял себе отклонений от сценария (в определенных, конечно, пределах), тем лучше он выполнял назначенную ему роль ширмы.
* * *
Когда в 49-м году Сталину стукнуло 70, все, кто был допущен к целованию (кто в ручку, кто в плечико, кто — не стану говорить, куда), выполнили эту лакейскую обязанность. К хору соратников — отечественных и зарубежных — присоединились, конечно, и писатели. Прочувствованную статью написал Фадеев. В присущем ему вычурно-выспренном стиле высказался Леонид Леонов.
В свой черед выступил со статьей на эту тему и Эренбург. Промолчать, не откликнуться на семидесятилетие вождя он, понятное дело, не мог.
Впрочем, раньше ли, позже, в славословии вождя приняли участие практически все знаменитые наши писатели и поэты.
У Пастернака был долгий и бурный роман со Сталиным, пик которого получил выражение в знаменитых его стихах: «… За древней каменной стеной, Живет не человек — деянье, Поступок ростом с шар земной».
У Мандельштама это был не роман, а трагедия, в сравнении с психологическими изломами которой меркнет фантазия Достоевского. И это тоже нашло отражение в гениальных (а главное, искренних) стихотворных строчках: «И к нему, в его сердцевину, я без пропуска в Кремль вошел, разорвав расстояний холстину, головой повинной тяжел».
Заболоцкий свою «Горийскую симфонию» написал без надрыва, но тоже, я думаю, с немалой долей искренности: неискренние стихи такими не бывают.
Что касается сочинений публицистического жанра, где мера искренности не так важна, как в поэзии, тут уж каждый старался поднять планку льстивых восхвалений хоть на сантиметр, а все-таки выше другого. Рекордной высоты достиг Леонид Леонов, предложивший начать новое летоисчисление со дня рождения товарища Сталина. (Кто знает, продлись жизнь вождя еще на годик-другой, и предложение это, глядишь, было бы принято.)
С наибольшим достоинством вышла из этого щекотливого положения Ахматова. По личным обстоятельствам («Муж в могиле, сын в тюрьме…») ей тоже пришлось отметиться, присоединив свой голос к общему хору льстецов. И она это сделала. Но в стилистике, резко отличающейся от той, в которой выполнили эту задачу все ее собратья по перу.
В «Капитанской дочке» (незабываемая сцена!) Гринева, которого только что чуть не вздернули на виселицу, подтаскивают к Пугачеву, ставят перед ним на колени и подсказывают: «Целуй руку, целуй…» А верный Савельич, стоя у него за спиной, толкает его и шепчет: «Батюшка Петр Андреич! Не упрямься! Что тебе стоит? Плюнь да поцелуй у злод… (тьфу!) поцелуй у него ручку».
Гринев, как мы помним, не внял этому совету, признавшись, что «предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению».
А Анна Андреевна поступила именно так, как советовал Гриневу Савельич.
Она приложилась губами к руке палача. Но губы ее были холодны, как у мертвеца:
И благодарного народа
Он слышит голос: «Мы пришли
Сказать: где Сталин, там свобода,
Мир и величие земли!»
Это ведь только стиховеды думают, что «материя песни, ее вещество» состоит из слов, и хорошие стихи отличаются от плохих качеством этой словесной ткани, — то есть наиболее удачным выбором слов и правильным их расположением.
Некоторые стиховеды, впрочем, даже и этого не думают.
Стихи делятся не на хорошие и плохие, а на те, которые нравятся нам и которые нравятся кому-то другому. А что, если ахматовский «Реквием» такие же слабые стихи, как «Слава миру»?
(М. Гаспаров. Записи и выписки. М. 2000, стр. 42.)Это признание одного из корифеев современного стиховедения выдает его с головой.
И дело тут совсем не в том, что на самом деле «Реквием» — хорошие стихи, а «Слава миру» — плохие. То есть — не в том, что стихи, входящие в «Реквием», в отличие от «плохо написанных» стихов, входящих в цикл «Слава миру», написаны «хорошо».
Вся штука в том, что «хорошие» стихи отличаются от «плохих» не тем, что они «хорошо написаны», а тем, что за ними стоит «внутренний жест», движение души. Попросту говоря — чувство, все равно какое: боль, радость, умиление, страх…
Вот даже у Исаковского, искренне желавшего восславить вождя, невольно вырвалось:
Мы так вам верили, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.
Был, значит, все-таки этот вопрос — кому верить: ЕМУ или себе?
Исаковскому, конечно, и в голову не приходит, что верить лучше все-таки себе. Нет, он верит ЕМУ. Только ЕМУ — и никому другому.
Но сам-то вопрос остается. Висит в воздухе.
У Ахматовой никаких таких оговорок и проговорок быть не может по той простой причине, что она к объекту своего восхваления никаких добрых чувств не испытывает. И далее не пытается это скрыть. Мы даже и голоса ее тут не слышим — только голос какого-то безликого, неизвестно где обретающегося «благодарного народа». Голос, в сущности, неведомо чей и незнамо откуда раздающийся.
В другом ее стихотворении того же цикла эта двусмысленность выразилась еще яснее, еще отчетливее:
Пусть миру этот день запомнится навеки,
Пусть будет вечности завещан этот час.
Легенда говорит о мудром человеке,
Что каждого из нас от страшной смерти спас.
Заметьте: это говорит не она. Это говорит — легенда. Сказать такое от себя у нее язык не поворачивается.
Положение Эренбурга, казалось бы, полностью исключало такой казенный вариант. «Выдающийся публицист и пламенный борец за мир» обязан был найти проникновенные слова, идущие от самого сердца и насквозь прожигающие сердца читателей. Положение обязывало: в номерах служить, подол заворотить.
Не скажу, чтобы Эренбург с честью вышел из этого положения. (Какая уж тут честь!) Подол пришлось заворотить довольно сильно.
Но выполняя эту непростую задачу и в конце концов выполнив ее на довольно высоком профессиональном уровне, он шел тем же путем, что Ахматова.
Статья его называлась «Большие чувства». Но о чувствах самого автора в ней — ни слова.
На протяжении всей статьи автор рассказывал нам о чувствах других людей, а не о своих собственных:
…Я слышал, как это имя повторяли юноши и девушки Мадрида, подымаясь в Сьерру Гвадерраму……
Это слово я слышал в глухих деревнях Албании…
…На берегу ярко-рыжей реки Миссисипи, где хлопок, негры и беда, я зашел в лачугу… На стенах — ни картинок, ни зеркальца, только одна маленькая фотография. Негр показал мне на нее: «Это Сталин»…
…Его видели молодые китайцы, освобождая древний Пекин, и он заходил в тюрьмы Индии, чтобы дружеским словом поддержать осужденных…