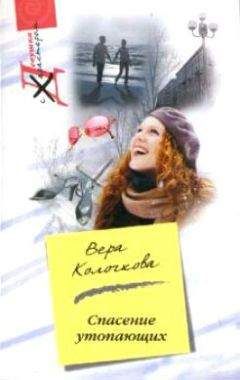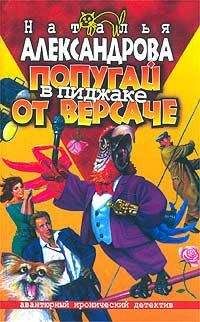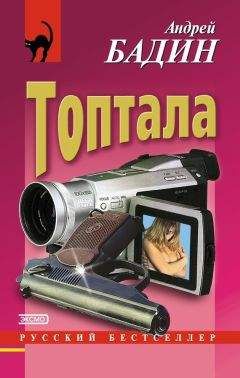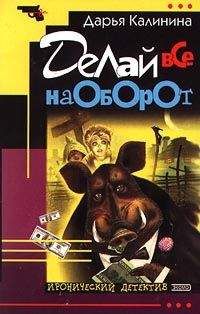Alexandrov_G - Дверь в стене
И вот 5 июня 1947 года, выступая перед студентами и преподавателями Гарварда, госсекретарь Маршалл изложил своё видение международного расклада и предложил план по спасению Европы. И место, и время для выступления с точки зрения того, что в нынешней РФ называют "пиаром", были выбраны идеально. Время поджимало, а адресатом стали имевшиеся на тот момент и будущие интеллектуалы. По причине объёма информации изложить всё, что связано с феноменом, вошедшим в историю как "план Маршалла", не представляется возможным, поэтому нам придётся разбираться с ним схематически. Нарисованная Маршаллом картина выглядела так: раскочегаренная Второй Мировой американская экономика составляла на 1947 год примерно половину экономики мира и более половины промышленной продукции мира производилось там же, в США. Для Америки это было хорошо, если не сказать прекрасно, но на горизонте вставало грозовое облако - половину того, что производилось в мире, США требовалось продавать другой половине, а у этой другой половины не было денег. Не было тугриков, не было пошлых денежных знаков. Не было золота.
Не было долларов.
Так вот Маршалл предложил простое, а всё гениальное просто, решение. Он сказал: "А давайте мы дадим им денег. Просто - дадим. Подарим. Требование только одно - то, что им нужно, на эти деньги они будут покупать у нас же. На наши деньги - у нас. Парадокс? Может быть. Но гений парадоксов друг, не может быть, чтобы он нам не помог."
В Гарвард идут люди, любящие думать, и, услышав Маршалла, люди эти, а были они людьми молодыми, взволнованно зашумели, и шум этот производился главным образом закрутившимися в их головах шариками.
Сама по себе идея была выработана в глубинах аппарата Госдепартамента, там не сомневались в её действенности, задача была в том, чтобы донести идею не так до "избирателя", как до тех, кто "принимает решения". И не так в Америке, как "на местах". В Америке выступление Маршалла было отодвинуто в тень (наверняка сознательно) выступлением Трумана по поводу "коммунистического переворота в Венгрии". Однако "под столом" были предприняты кое-какие усилия. За день до гарвардской речи Маршалла, 4 июня 1947 года, Дин Ачесон, в то время заместитель Маршалла в Госдепе (поскольку Маршалл был человеком военным, то Ачесона, при том, что он был человеком сугубо гражданским, называли маршалловским "начальником штаба") пригласил в ресторан трёх аккредитованных в Вашингтоне британских корреспондентов и предупредил их, что на следующий день будет сделано очень важное для их страны заявление и что он надеется на их содействие по донесению выступления Маршалла до ушей Эрнста Бевина "as soon as possible, whatever the time of day or night.").
Вот он Ачесон, один из архитекторов Холодной Войны:
Труман ценил его чрезвычайно. И не только потому, что Ачесон был очень успешным дипломатом. Гарри Труман был американцем-южанином, то-есть человеком, приверженным традиционным ценностям, а это помимо прочего означало ещё и то, что он, по его собственным словам, предпочитал опираться на людей, исходя не из их личной лояльности, а из их откровенности, "правдивости". Ачесон (притом, что он был дипломатом!) говорил "начальнику" Труману не то, что тому было приятно услышать, а то, "что есть". Отсюда понятно, каким образом Труман, окружавший себя людьми, подобными Ачесону, стал одним из самых успешных в истории США президентов.
Предусмотрительность американцев в донесении своей идеи до ушей заинтересованных лиц была похвальна, но она оказалась излишней. В Европе "инициатива" была встречена на ура. Тот же Бевин заявил, что он чувствует себя как утопающий, которому бросили в воду конец. Бевин озвучивал не своё мнение, а Бевином озвучивало мнение государство, которое на спасение уже не рассчитывало.
Европа немедленно засуетилась, засобиралась. Европа - ожила. Ещё бы ей не ожить.
"Не было гроша, да вдруг алтын!"
125
Внешнеполитические шаги США в 1947 году были беспрецедентны, что диктовалось сложившимся по итогам Второй Мировой положением в мире, "новым мировым порядком", который позже стали называть двуполярным миром.
Беспрецедентность внешнеполитическая означала и беспрецедентность внутриполитических действий, в первую очередь в области идеологии, так как государству следовало каким-то образом "объяснить" избирателю почему оно поступает так, а не иначе.
И сделать это было не очень легко, так как тогдашнее американское общество полагало, что его государство выходит из изоляции и принимает участие в мировых делах только в таких экстраординарных случаях, как мировые войны. А 47-й год был годом послевоенной эйфории и действительность проговаривалась в исключительно мирных терминах. "Силовые" действия заведомо исключались, о них и речи не могло идти, и даже вмешательство в европейские дела в форме экономической и финансовой помощи требовало "встряски" массового сознания. Именно эту цель преследовала декларированная доктрина Трумана. Впервые в своей истории Соединённые Штаты предпринимали пусть и не посредством вооружённых сил, но тем не менее интервенцию в мирное время.
"Поможем Европе подняться с колен, чтобы она могла противостоять коммунистической угрозе." Так выглядела причинно-следственная связь в газетных заголовках. Для более "продвинутой" части общества проблема вербализировалась немного по-другому и обрастала деталями - "послевоенные Европа и Япония являются для нас естественными рынками сбыта и чем лучше у них будут обстоять дела, тем больше они смогут у нас покупать, стимулируя уже нашу экономику, а потому в наших национальных интересах как можно быстрее восстановить покупательную способность европейцев и японцев."
Ни высокая политика, ни вопросы геополитики не затрагивались, государство играло на других струнах, в одном случае оно взывало к эмоциям, в другом к вполне естественному желанию граждан и гражданок жить не только весело, но ещё и хорошо.
Однако кроме идеологического фундамента требовалась ещё и "физика", требовалось нечто материальное, словами делу не поможешь и если решение было принято ещё до того, как началась идеологическая кампания, то после слов следовало перейти к делам. Для помощи нужны были деньги, много денег. Очень много.
Труману было необходимо заручиться поддержкой Конгресса и он начал с того, что встретился с Сэмом Рейбёрном, спикером Палаты Представителей и попросил его о поддержке. Рейбёрн ответил, что он не видит возможности получить одобрение Конгресса. "Господин президент, мы не можем финансировать восстановление Европы, мы просто не можем себе этого позволить, мы разорим страну." Труман ему сказал: "Сэм, если мы этого не сделаем, в Европе начнётся худшая в её истории депрессия, сотни тысяч людей умрут от голода, там разразится катастрофа и если мы позволим Европе пойти ко дну, то депрессия начнётся и у нас тоже. Мы оба жили во время депрессии, мы знаем, что это такое и я не думаю, что мы захотим пережить это ещё раз." "Во сколько это нам обойдётся?" - спросил Рейбёрн. "В пятнадцать или шестнадцать миллиардов долларов" - ответил ему Труман.
Сценка эта изложена в мемуарах Трумана и с его слов Рейбёрн, услышав сумму, побледнел. "Мне будет трудно их уговорить, но я сделаю всё, что могу, вы можете на меня рассчитывать" - сказал он.
История с "планом Маршалла" свидетельствует об умении просчитывать на много шагов вперёд и учитывать множество факторов, отнюдь не очевидных даже и для занимающих высокие государственные посты людей.
В Москве "план Маршалла" был встречен в штыки. По совершенно очевидным причинам. И к языку газет, ко всем этим "закабалениям", "империалистическим проискам", "разжиганию войны", "интересам корпораций" и "ограблению", истинные причины отношения не имели. Усиление Европы в любом смысле не отвечало интересам СССР, а "план Маршалла" предусматривал экономическую и финансовую помощь Европе как единому целому. Американцы до конца упорно стояли на своём, а СССР не менее упорно - на своём. Москва, даже на словах идя на уступки, настаивала на том, чтобы помощь оказывалась на двусторонней основе, в виде пары США - государство-получатель-помощи, что обессмысливало "план" сам по себе. Американцы же одновременно с запуском "плана" создали орган под названием Economic Cooperation Administration (ECA), который, располагаясь в Вашингтоне, должен был иметь представительства в столицах государств-ресипиентов и заниматься распределением помощи централизованно.
Сами европейцы (все, как целое) встретили "план" с энтузиазмом, что понятно, как понятно и то, что они предпочли закрыть глаза на вечную европейскую опаску, хотя США сразу же, чтобы в дальнейшем не возникало дипломатических недоразумений, заявили, что "… the restoration of Europe involves the restoration of Germany."
"Вникнув" в европейские дела на месте, США обнаружили, что континентальная Европа "завязана" на Германию и что восстановление Европы в первую очередь означает восстановление Германии. Во всех смыслах, в том числе и в смысле единого немецкого "хозяйства". В России же, вынужденной с Германией сосуществовать бок о бок, это поняли задолго до американцев и в 1947 году Москва полагала, что если в интересах США восстанавливать Европу через восстановление Германии, то СССР следует делать прямо противоположное и что если он не хочет усиления Европы, то ему нужно не допустить усиления Германии. Логика достаточно простая, но вместе с тем не означающая совпадения интересов.