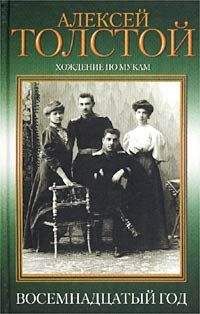Бенедикт Сарнов - Сталин и писатели Книга вторая
22 июня 1939
Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
Все перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек,
И долго ль казни ждать.
Эта женщина больна.
Эта женщина одна.
Муж в могиле, сын в тюрьме.
Помолитесь обо мне.
_________________
Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.
_________________
А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем — не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,
Забыть, как постылая хлюпала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь.
Как крестный ход идут часы Страстной Недели…
Я вижу страшный сон. Неужто в самом деле
Никто, никто, никто не может мне помочь?
В Кремле не надо жить, — Преображенец прав,
Там зверства древнего еще кишат микробы:
Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы,
И Самозванца спесь взамен народных прав.
За такую скоморошину,
Откровенно говоря,
Мне свинцовую горошину
Ждать бы от секретаря.
_________________
Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей —
Как трехсотая с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своей слезою горячею
Новогодний лед прожигать.
_________________
Меня, как реку,
Жестокая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь, в другое русло,
Мимо другого потекла она.
И я своих не знаю берегов.
О! как я много зрелищ пропустила.
И занавес вздымался без меня
И так же падал. Сколько я друзей
Своих ни разу в жизни не встречала.
О, сколько очертаний городов
Из глаз моих могли бы вызвать слезы…
Я сделала, пожалуй, все, что можно…
Я не в свою, увы, могилу лягу.
Но иногда весенний шалый ветер,
Иль сочетанье слов в случайной книге,
Или улыбка чья-то вдруг потянут
Меня в несостоявшуюся жизнь.
В таком году произошло бы то-то,
А в этом — это: ездить, видеть, думать,
И вспоминать и в новую любовь
Входить как в зеркало…
Но если бы оттуда посмотрела
Я на свою теперешнюю жизнь,
Я б умерла от зависти.
Под узорной скатертью
Не видать стола.
Я стихам не матерью,
Мачехой была.
Эх! — бумага белая,
Строчек ровный ряд,
Сколько раз глядела я,
Как они горят,
Сплетней изувечены,
Биты кистенем.
Мечены, мечены
Каторжным клеймом.
_________________
Хвалы эти мне не по чину,
И Сафо совсем ни при чем.
Я знаю другую причину,
О ней мы с тобой не прочтем.
Пусть кто-то спасается бегством,
Другие кивают из ниш,
Стихи эти были с подтекстом
Таким, что как в бездну глядишь.
Из-под каких развалин говорю,
Из-под какого я кричу обвала,
Как в негашеной извести горю
Под сводами зловонного подвала.
Это и не старо и не ново,
Ничего нет сказочного тут.
Как Отрепьева и Пугачева,
Так меня тринадцать лет клянут.
Неуклонно, тупо и жестоко
И неодолимо, как гранит,
От Либавы до Владивостока
Грозная анафема гудит.
Другие уводят любимых,
Я с завистью вслед не гляжу.
Одна на скамье подсудимых
Я скоро полвека сижу.
Вокруг пререканья и давка
И приторный запах чернил.
Такое придумывал Кафка
И Чарли изобразил.
И там в совещаниях важных,
Как в цепких объятиях сна,
Все три поколенья присяжных
Решили — виновна она.
Меняются лица конвоя,
В инфаркте шестой прокурор,
А где-то чернеет от зноя
Огромный небесный простор.
И полное прелести лето
Гуляет на том берегу,
Я это блаженное «где-то»
Представить себе не могу.
Я глохну от зычных проклятий,
Я ватник сносила дотла.
Неужто я всех виноватей
На этой планете была?
Так не зря мы вместе бедовали,
Даже без надежды раз вздохнуть, —
Присягнули — проголосовали
И спокойно продолжали путь.
Не за то, что чистой я осталась,
Словно перед Господом свеча,
Вместе с ними я в ногах валялась
У кровавой куклы палача.
Нет, и не под чуждым небосводом
И не под защитой чуждых крыл,
Я была тогда с моим народом
Там, где мой народ, к несчастью, был.
Вот такой злой, каторжной, окаянной — была ее долгая жизнь. И на каждом роковом ее повороте она повторяет одно и то же:
Ничего, ведь я была готова…
Я давно предчувствовала это…
Пусть кто-то спасается бегством…
Другие уводят любимых,
Я с завистью вслед не гляжу…
Пусть так, без палача и плахи
Поэту на земле не быть…
Ни на секунду не забывает она, что все, что ей довелось пережить, было не злой насмешкой судьбы, а результатом ее сознательного выбора. И ни разу не пожалела она о том, что сделала такой выбор. А однажды, представив, что жизнь ее могла быть совсем другой, и мысленно вообразив себя живущей той, спокойной, благополучной, счастливой и радостной жизнью, сказала даже, что, взглянув оттуда на эту свою, — окаянную и каторжную, — умерла бы от зависти.
Все обозначенные мною тут вехи главного ее лирического сюжета (а также многие другие, в этот мой перечень не попавшие), как расширяющаяся Вселенная, вырастают из одной точки. Этой точкой было ее стихотворение 1922 года, строкой из которого я озаглавил этот сюжет. Вернее, даже не все стихотворение, а только вот это четверостишие:
А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.
Но тогда, в 1922-м, она, конечно, не знала, КАКИЕ это будут удары. В самом страшном сне не могла ей тогда привидеться даже малая толика того, что потом ей пришлось перенести.
Сюжет второй
«ДОЧЬ ВОЖДЯ МОИ ЧИТАЛА КНИГИ…»
Эта строка — из «Лирического отступления седьмой элегии» (1958 год).
Весь фрагмент, из которого я ее выхватил, выглядит так:
А я сижу — опять слюну глотаю
От голода. — А рупор говорит.
Я узнаю, какой была я скверной
В таком году, как после становилась
Еще ужасней…
Как в тридцать лет считалась стариком,
а в тридцать пять обманами и лестью
кого-то я в Москве уговорила
прийти послушать мой унылый бред,
как дочь вождя мои читала книги
и как отец был горько поражен.
Имеется в виду легенда, согласно которой Сталин однажды увидал, что его дочь Светлана — ей было тогда четырнадцать лет — переписывает какой-то рукописный текст в свою тетрадку. Он спросил: что это? Светлана сказала, что это стихи Ахматовой, которые ей очень нравятся.