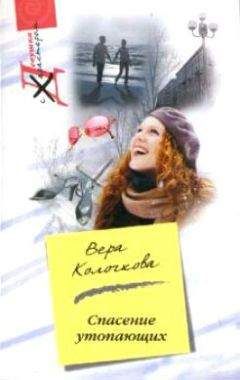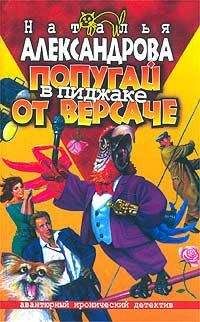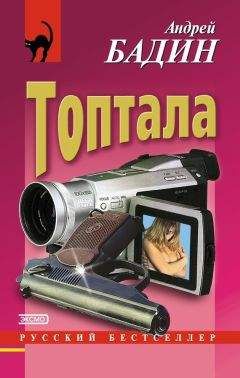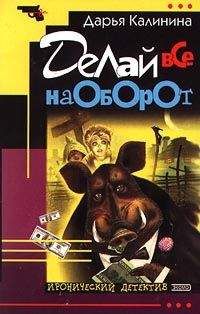Alexandrov_G - Дверь в стене
Однако общественному мнению было невдомёк, что во всём этом кроется элемент лукавства - англичане ведь не сказали "помогите, пособите нам держать мир, дайте нам денег, поддержите нас, дайте передохнуть", нет, они искали не передышки, а хотели они выскользнуть из под европейской тяжести и переложить её на США.
Ссылаясь на свою слабость и немощь они отказывались держать всю Европу, но при этом они не отдавали свою часть оккупированной Германии. Бросая Европу, они не бросали Юго-Восточную Азию, они не бросали свои владения в южной части Тихого Океана, они не бросали Ближний Восток, они не бросали Африку и они не бросали Кипр, Мальту и Гибралтар. Фактически Англия шантажировала Америку тем, что если она из Европы уйдёт, то следствием этого будет воцарившийся хаос, незбежный тем более, что отгородившийся от Западной Европы СССР демонстрировал явное равнодушие к судьбе европейцев.
В этом месте мы можем рассмотреть ещё один пример неоднозначности того или иного элемента игры, в силу сложности недоступного воображению как отдельных людей, так и собираемому из отдельных умов массовому сознанию. Мы уже несколько раз убеждались в том, что атомная бомба позволила американцам решить массу проблем, причём далеко не все из них были проблемами военными, значение Бомбы как оружия политического далеко превосходит её в качестве оружия как оружия чисто военного. Но Бомба интересна тем, что она позволяет решать проблемы отнюдь не одного лишь государства, ею обладающего. Никто не понимает (во всяком случае никто этого вслух не произносит), что Бомба, имевшаяся у американцев, была на руку и Сталину. И было так в силу очень популярного не только сегодня, но и сразу после войны мнения, что надо было, мол, не останавливаться на достигнутом, а продолжать наступление и смести "проклятых англо-саксов" в Атлантику.
Возможность подобного развития событий наверняка рассматривалась обеими сторонами и кого кого, а Сталина она в восторг отнюдь не приводила. Как заметил классик русский человек любит быструю езду, но вот задумываться и строить планы русский человек не любит, и это понятно, расчётливость мешает наслаждаться свистом ветра в ушах. Однако Сталину, государство возглавлявшему, хочешь не хочешь, а планировать приходилось. И если бравому танкисту хотелось домчать до Ла-Манша, выпить стакан спирту и завалиться спать, а там хоть трава не расти, то товарищу Сталину приходилось думать обо всём на свете и думать не только за себя, но и за тех парней, и про рост травы ему приходилось думать тоже. Должность у него такая была.
Так вот Сталин понимал то, чего не понимают очень многие люди даже и сегодня. Понимал он вот что - продолжать воевать можно было, как можно было и доразрушить Европу до конца, но что было делать дальше? Кто должен был Европу восстанавливать и кормить? Пушкин? Откуда было взять деньги, чтобы восстановить европейскую индустрию, которая была куда больше индустрии СССР? Кто должен был кормить жителей разорённой Европы, каковых толерантных европейцев уже тогда насчитывалось гораздо больше, чем советских людей, умиравших после войны от голода? И чем бы их кормили бравые танкисты, домчавшие до Кале? Повторюсь, что никто из охваченных эйфорией победы советских людей не думал об этом тогда, как никто из перерожденцев, бывших когда-то советскими людьми и ныне откликающихся на обращение "дорогие россияне", не хочет думать даже и сегодня.
Но во главе СССР стоял человек, который обо всём об этом думал и ему Хиросима с Нагасаки пришлись очень кстати, так как позволяли охладить горячие головы, имевшиеся не только в армии, но и в политическом руководстве. Для обычного ума государственный расчёт это что-то туманное, а вот изображённая средствами социалистического реализма "ядерная дубинка" очень понятна и в высшей степени доходчива.
И именно вокруг этого и водились послевоенные хороводы. Кто будет Европу "держать". Кто её будет восстанавливать. Кто будет её кормить. Кто будет её ужинать. И кто её будет танцевать.
121
Что такое лавина известно всем, как и каждый знает, что для того, чтобы лавина пошла, нужно некое внешнее воздействие, которое нарушит равновесие, нужен толчок. Нужна первопричина. Подтаяла снежная подушка на лапе сосны, да и - плюх! Или румяная гимназистка с той или иной степенью грациозности сбила рыхлый снег с каблучка и вот уже сто лет лавина идёт и идёт, ничем не остановишь, ни гулагом, ни оттепелью. Точно так же и с Холодной Войной. Камешком, который, покатившись, нарушил вроде бы сложившееся, хоть и не успевшее слежаться состояние послевоенного покоя, стала не речьЧерчилля в Фултоне, а визит первого секретаря британского посольтва в Государственный Департамент годом позже.
Хронологически события развивались так:
5 марта 1946 года - черчиллевская речь, в США получившая известность скорее скандальную, что выразилось не только в газетных отповедях, но и в раздражении официальной Америки, нашедшем выход в том, что на проводы Черчилля после завершения его визита не явился заместитель госсекретаря Дин Ачесон, который должен был там присутствовать по протоколу, чем американской стороной был понижен уровень визита бывшего британского премьера.
10 февраля 1947 года - завершение Парижской Конференции, подведшей черту под результатами Второй Мировой в Европе.
21 февраля 1947 года - англичане покатили свой камушек, дав знать американцам, что они уходят из Греции и Турции, создавая там вакуум силы и нарушая тем самым хрупкое равновесие, сложенное титаническими усилиями всех заинтересованных сторон всего за десять дней (!) до этого.
И, наконец, 12 марта 1947 года - выступление президента Трумана перед совместным заседанием обеих палат Конгресса. Историческое значение этой речи задним числом признаётся равным посланию Вудро Вильсона Конгрессу 2 апреля 1917 года, в котором Вильсон призвал Конгресс декларировать состояние войны между СаСШ и Германской Империей. И такое "вздыбливание" темы понятно, так как в обоих случаях речь шла о выходе США из изоляции и вмешательстве в европейские "дела", причём в 1947 году было ясно, что дело одной лишь Европой не ограничится из чего плавно вытекало "задач и планов громадьё".
Про долгое запрягание и быструю езду мы все слышали неоднократно, однако в данном случае на "запрягать" американцы потратили 19 дней. Обычному человеку с улицы невозможно представить себе что это такое - выработать политику государства менее чем за три недели. Для людей же, о предмете имеющих хоть мало мальские представления понятно, что это граничит с фантастикой. США казалось, что они извлекли из войны всё, что можно, да даже и больше, они сложили конфигурацию мира в порядок, который их более или менее устраивал, они даже были готовы к возможным неожиданностям, но тут вдруг всё оказалось скомканным в одночасье и теперь им предстояло мало того, что начинать с чистого листа, но им нужно было за 19 дней сделать то, на что обычно уходят годы.
Кроме того, событий было так много и они были завязаны в столь тугой узел, что от создаваемой на перспективу политики требовалось быть не только универсальной, но она ещё должна была решать задачи как внешние, так и внутренние, причём решать не последовательно, а параллельно.
И такое политическое чудо-юдо было создано, и было оно создано за считанные дни, то ли умеют в Америке находить нужных людей в нужный момент, то ли такие люди там сами находятся, не знаю, но только нашлись они и в этот раз. В русскоязычной историографии традиционно считается, что яркого и харизматичного Рузвельта сменила тусклая и серая трумановская администрация и это несмотря на то, что в ней работали люди калибра Маршалла, Ачесона и Кеннана. Также не осознаётся то, что вторая половина сороковых для Америки была ничуть не легче половины первой, просто усилия государства перешли из одной плоскости в другую, обществу хуже видную. И куда менее понятную.
Смотрите - после войны США фактически предложили СССР проект "совместного владения" Европой. Из этого вытекало противостояние не военное, а политическое, противостояние не на уровне "блоков", которые до того назывались "коалициями", а на уровне соперничества внутри политических партий европейских государств. СССР не согласился и его можно понять. Во-первых, в Кремле наверняка сознавали, что соперничать в изощрённой политической игре, да ещё не где-нибудь в Монголии, а в Европе, Россия ещё не готова, а, во-вторых, буфер из восточно-европейских государств был тем понятнее, нагляднее и насущнее, что ведь только за первую половину ХХ века милые европейцы, пользуясь отсутствием забора, дважды захаживали к русским в гости и результаты этих визитов известны каждому школьнику.
Кроме того, в Кремле полагали (и небезносновательно), что сегодня американцы думают так, а завтра они начнут думать другое и по-другому, а забор, между тем, всегда остаётся забором, его не только руками потрогать можно, но за ним в случае чего и отсидишься. Поэтому Сталин, придерживая Восточную Европу и демонстрируя нежелание её отдавать, попросил у США денежный заём. Сама по себе эта просьба была демонстрацией миролюбия, так как если вас связывают денежные отношения, то вам как-то не до войны.