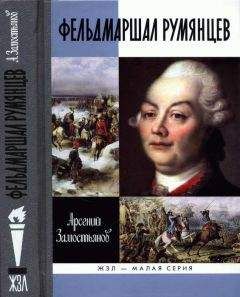Алесь Адамович - Блокадная книга
Мы обратились к началу истории. Впервые «открыла» этот дневник редактор газеты Алла Белякова в 1970 году. Тетрадь принесла в редакцию ленинградской молодежной газеты «Смена» женщина, которая хранила дневник много лет. Чутьем опытного журналиста Алла Белякова поняла значительность этого документа, она опубликовала в «Смене» большой отрывок из дневника Юры Рябинкина. Более того, она разыскала и собрала его одноклассников в надежде узнать какие-либо подробности о судьбе мальчика.
После выхода первой части нашей «Блокадной книги» Алла Белякова передала нам машинописный текст дневника (не до конца прочитанного, расшифрованного). Дневник порождал немало вопросов: что стало с Юрой, с его мамой, с его сестрой Ирой? Дом, где он жил, давно был занят под учреждение, так что расспросить у прежних жильцов не было возможности. Было неясно, каким образом уцелел дневник. Может быть, есть продолжение его? К сожалению, адрес и фамилия женщины, которая принесла этот дневник в газету, затерялись.
Мы обратились по радио с просьбой откликнуться – кто знает что-либо о Юре Рябинкине? Среди нескольких писем пришло письмо от Татьяны Улановой. Девичья фамилия ее была Трифонова. В семье Трифоновых и хранился дневник Юры Рябинкина. Она писала нам: «Родители мои не хотели отдавать дневник – боялись, что он просто потеряется, а для них он много значил: папа воевал на Волховском фронте, мама сама пережила блокаду, ей было только на два года больше, чем Юре. От голода умерли мамины отец, сестра, племянники… Поэтому Юрин дневник был очень дорог моим родителям. Но я убедила их, и вот дневник начал новую жизнь… Может, это смешно, но я была счастлива, слушая ваше выступление. Но, с другой стороны, мне было неловко: я, не желая того, ввела корреспондента, который приезжал к нам в школу, в заблуждение. Я точно не помнила и сказала, что дневник попал к нам от Юры. На самом деле было несколько иначе. Моя бабушка Трифонова Ревекка Исааковна работала в туберкулезной больнице патронажной сестрой, и однажды ей пришлось везти в больницу (это было на Вологодчине в 1942 году.– А. А., Д. Г.) умирающего учителя из деревни Клипуново Лежского района, и жена этого учителя дала ей этот дневник почитать в дороге, чтобы нескучно было. Учитель уже не мог говорить и в больнице умер. Дневник остался убабушки. Как он попал к учителю, жена его не знала. Бабушка думает, что Юру, наверное, вывезли из Ленинграда и он попал в какой-нибудь детприемник в Лежском районе и скорее всего там и умер, ведь многие приезжали из Ленинграда на грани жизни и смерти. Может быть, такое уточнение и мелочь, но лучше исправить ошибку, которую я внесла в историю дневника.
Помню, папа говорил, что было две тетрадки, но вторая давно куда-то делась. То ли ее «зачитали» (мои родители много раз перечитывали сами и давали читать другим), то ли потеряли при переездах. Сначала дневник был у бабушки в Вологде, потом в нашей семье в Ленинграде… Вот все, что мне известно».
Написали мы в Вологду Трифоновым. Оттуда пришло письмо, где повторялась вся эта история, рассказанная Татьяной Улановой, про самого Юру ничего Трифоновы не знали, достались им лишь его тетрадки. Естественно, нас очень интересовало, что было во второй тетрадке. В письме из Вологды сообщали:
«Теперь о второй тетради. Это была обыкновенная школьная тетрадь в шесть листов, тоже немного обгорелая и чем-то залитая. Но она не была непосредственным продолжением первой. Записи занимали 2—3 страницы. Это были бессвязные предложения и многократно повторяющиеся слова „хочу есть, хочу есть, умираю“, написанные крупными буквами уже не по линейкам. Дат в этой тетради не было. Не могу объяснить, как потерялась эта тетрадочка… Вот и все, что мама может вам рассказать».
И эти подробности были важны. Заметим, что дневник этот в семье Трифоновых перечитывался. К нему возвращались. Он был как бы семейной реликвией, этот дневник незнакомого ленинградского мальчика. Может, оттого и сохраняли, сберегали все эти годы.
Но более дневника нас интересовал сам Юра: что с ним произошло? Никто из друзей его не откликнулся, да и вряд ли они что-нибудь могли знать. По некоторым сведениям, сестра Юры была жива. Мы стали разыскивать ее. Нам помогла Алла Алексеевна Белякова, и вскоре выяснилось, что Ира Рябинкина живет в Ленинграде, она учительница, преподает в школе литературу, фамилия у нее другая, по мужу… Мы списались, созвонились и не без некоторого душевного стеснения отправились на эту встречу.
Мы столько вчитывались в Юрин дневник, так сжились с Юрой, с его семьей, что теперь опасались… Чего? Разочарования? Забвения? Несоответствия? Да мало ли! Было странно и даже удивительно, что вот спустя почти сорок лет можно что-то различить и высмотреть среди братских могил блокады, трупов, сваленных штабелями. Что еще есть люди, и в Вологде и здесь, которые помнят, которым все это важно… Остается все же след. Какой-то след от каждой жизни. И от этой короткой, шестнадцатилетней, несостоявшейся… Впрочем, что значит несостоявшейся? Как судить, состоялась жизнь или нет? Не по количеству же прожитых лет…
Оказалось, что Ира, ныне Ирина Ивановна, волновалась больше нашего. Маленькая тоненькая женщина, хрупкая на вид, встретила нас с непонятным напряжением, почти испугом, хотя при этом было видно, что нас ждали, в этой уютной квартирке к нашему приходу был накрыт стол, приготовлены угощения. И муж Ирины Ивановны и дочь-студентка смотрели настороженно, словно ожидая от нас неприятностей. Все это было странно. Кроме волнения, которое обычно вызывают блокадные воспоминания, присутствовало тут нечто иное.
Поначалу Ирина Ивановна не хотела ничего рассказывать, ссылаясь на то, что тяжело вспоминать и не хочется, чтобы писали о ней, да и о брате тоже.
Мы доказывали, что жизнь Юры Рябинкина и его дневник как бы принадлежат истории, что публикация дневника в какой-то мере памятник брату, а главное, что для молодых читателей важно понять, почувствовать жизнь подростка в блокаде… Все доводы она понимала не хуже нас и уступила не потому, что мы ее убедили, а с какой-то иной, неизвестной нам мыслью. Она стала рассказывать:
«– От улицы Дзержинского до Адмиралтейства – все это мой район. И Банковский и Юсуповский садики. Это мои родные места по детству. Если есть возможность, я всегда стараюсь сейчас проходить мимо… Мы жили на улице Третьего июля, дом тридцать четыре, квартира два. У нас была все-таки разница в восемь лет с братом, и близости поэтому не было, не успела возникнуть… но сестренкой я была единственной, хотя и маленькой. Он, конечно, меня не нянчил. Была у нас до войны домработница, приходящая, дома всегда суп был, всегда варили суп, каждый день. Даже сейчас мы этого не успеваем, а для меня детство – это суп каждый день. Война меня застала в Юсуповском саду. Мы катались там с горки, и вот я услышала крики: „Война!“ Все побежали… Был солнечный день. „Молотов выступает!“ Я не знала, что это за Молотов, который выступает. Толпа у громкоговорителей. Это я помню. А дома никого не было. Потом пришла мама, А Юра был всегда в кругу ребят, его часто не было дома. У него была отдельная комната. У нас была квартира: вход со двора, коридор, кухня, столовая, спальня, Юрина комната.
– Вы помните И., своих соседей?
– В войну И. был управляющим трестом. Анфиса, его жена, умерла после войны. Это мне сказала соседка Мария Васильевна. Умерла, не эвакуировалась. А его дома никогда не было. Ее я помню, яркую молодую женщину. Остался ли Юра с ними или нет, не знаю. Я написала письмо в этот дом, чтобы узнать, как все это случилось… Дело в том, что последние дни он лежал, не мог вставать. Я не скажу, что мне все отдавали. Мама делила паек, но Юре не хватало. Он правильно пишет, что мама съедала первая свой кусок, а я,– может быть, потому, что была мала, мне надольше хватало. Я помню, как он лежал, отвернувшись, на диване. Разговор постоянно шел об эвакуации. Зимой, особенно в декабре, январе, все надежды были на эвакуацию: «Если обком… Если нам разрешат…» И вот, помню, мама уже принесла теплую одежду: стеганые штаны, стеганую фуфайку для Юры, кроме того, давали типа летного шлема стеганые шапки, принесла две шапки – для себя и для него. Я помню, облаченная во все это, мама помогала ему встать. Мне и в голову не приходило… Я и не смотрела… Вот он встал. Мы жили тогда на кухне. Кухня была большая – плита с медными перильцами и сбоку в таком «кулечке» стеклянном вода, которая при топке плиты согревалась. А рядом был большой сундук, у которого крышка поднималась, образуя деревянную спинку. Я больше таких не видела. Туда все можно было класть… Юра встал, прислонившись к этому сундуку, опираясь на палку, но идти не мог, не мог оторваться и стоял вот так, согнувшись, изможденный… Я помню это точно… Я все время чувствую себя виноватой, потому что я-то живу, я же понимаю это…
У нас были саночки, на них положили чемодан, в нем было столовое серебро (несколько вилок и ложек серебряных – все наши драгоценности), помню Юрин набор открыток из Третьяковки (их было у него много, чуть ли не сотня), их мы тоже с собой взяли (потом в детприемнике у меня их выпросили), затем какие-то одежки – все это взяли с собой. И вот я сзади санки толкала. А Юра остался дома: мама не могла его посадить, видимо, не могла, а идти он не мог. Не свезти было, видимо, его, я не знаю… Это был январь сорок второго. Ехали мы в эшелоне долго. Я помню эту товарную теплушку. Да, а когда мы к Московскому вокзалу добирались пешком по Невскому, мама порывалась все назад, за ним: «Там Юрка остался! Там Юрка остался!» Я плакала, конечно. Как только сели, теплушка почти сразу дернулась, и мы поехали. Поехали мы к Ладоге. Я отчетливо помню, как мы переезжали Ладогу.