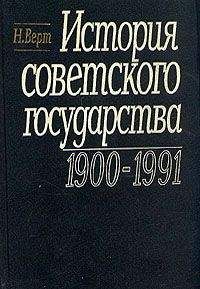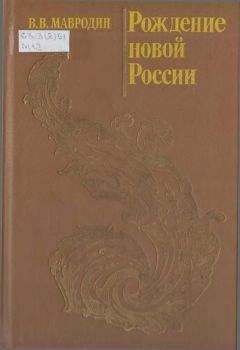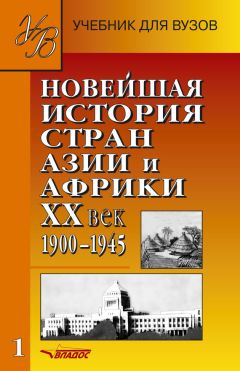Адам Замойский - 1812. Фатальный марш на Москву
Сильным стимулом являлась твердая решимость. Капитан Франсуа, раненый в ногу при Бородино, прошагал весь путь с костылем, в то время как капитан Брештель дошел домой на деревянной ноге. Луи-Франсуа Лежён как-то столкнулся с только что раненым в руку канониром. Он заметил двух медиков и попросил их осмотреть рану. Те констатировали необходимость ампутации, но, не имея стола для операции, попросили Лежёна подержать раненого. «Санитары открыли свою сумку. Канонир не сказал ни слова и не издал ни звука. Я слышал только тихие звуки пилы, а спустя несколько минут санитары сказали мне: “Все сделано! Жаль только, нет вина, чтобы подкрепить его”. У меня еще оставалось полфляжки малаги, каковую я растягивал за счет длинных промежутков между глотками, кои иногда позволял себе. Я протянул ее бледному и затихшему артиллеристу. В его глазах мгновенно вспыхнула жизнь и, махом опорожнившая флягу, он вернул мне ее совершенно пустой. “Мне еще далеко топать до Каркассона”, сообщил он, после чего двинулся в путь таким шагом, что я едва поспел бы за ним»{877}.
Другим мощным мотивом выступало чувство общей солидарности у солдат в части – однополчане нередко спасали друг друга в самых отчаянных ситуациях. «Посреди всех тех кошмарных бедствий самую острую боль доставила мне гибель моего полка, – писал полковник де Фезансак, командир 4-го линейного. – То было единственное настоящее испытание, перенесенное мною, ибо я не причисляю к таковым голод, холод и переутомление. Покуда здоровье позволяет выдерживать физическую нужду, храбрость скоро учится презирать их, особенно когда нас поддерживает мысль о Боге и об обещанной загробной жизни. Но, должен признать, мужество покидало меня, когда я своими глазами видел смерть друзей и товарищей по оружию, коих – и справедливо – называют полковой семьей… Ничто не сплачивает людей так же сильно, как разделяемые страдания, и я на деле находил в них [однополчанах] ту же заботу и ту же привязанность ко мне, как и пробуждаемые ими во мне. Не бывало случая, когда бы офицер или солдат имел кусок хлеба и не предложил мне разделить его с собой». Согласно мнению данного мемуариста, подобное наблюдалось повсюду в 3-м корпусе, остатки частей которого по-прежнему маршировали в добром походном порядке и под звуки барабанов. Отмечается немало примеров, когда командиры оставались с солдатами до конца: ярким примером тому служат принц Вильгельм Баденский и принц Эмиль Гессенский{878}.
Артиллеристы изо всех сил старались сберечь пушки, что требовало мучительных усилий на каждом спуске или подъеме дороги. Заклепывали их, только потеряв последних лошадей. «Трудно и выразить, как оборвалось мое сердце, когда я был вынужден бросить последнее орудие», – писал лейтенант Лиоте{879}.
Оставшиеся безымянными солдаты обоза продолжали тащить нагруженные золотом повозки Trésor[214], в том числе и фуры с долей Наполеона из награбленного в Москве, и провезли их через Красный и переправу на Березине. Ответственный за конвой барон Гийом Перюсс – зануда, считавший всю кампанию нелепостью и мечтавший избавиться от исполнения порученного ему задания – имел привычку находить наихудшие моменты для обращения к самым разным влиятельным персонам и досаждать им просьбами замолвить слово перед императором о его, Перюсса, повышении и переводе на какой-нибудь более почетный пост. Но он, безусловно, лучше всех подходил для доверенной ему задачи и смог без потерь провести до Вильны весь конвой, состоявший из доброй пары дюжин фургонов, нагруженных золотой монетой, а также бриллиантами Наполеона.
Примером проявления высшего благородства и верности долгу служит случай одного из адъютантов Даву, полковника Кобылиньского, которому во время рекогносцировки на поле после захвата Малоярославца ядром раздробило ногу. Очень опасаясь, как бы полковник не пропал в потоках раненых, тащившихся за армией, Даву поручил адъютанта роте гренадеров со строгим приказом не оставлять его ни при каких обстоятельствах. Гренадеры отнеслись к заданию со всей серьезностью и всю дорогу Кобылиньского тащили на себе. «Полковник лежал на походных носилках, завернутый в одеяла и несомый шестью солдатами, менявшимися поочередно, – писал другой польский офицер. – Этот караван часто попадался мне на пути, и я восхищался столь героической преданностью, в особенности же тем, что объект ее даже не француз, а один из наших соотечественников». В какой-то момент полковник стал упрашивать гренадеров бросить его и спасаться самим, но те строго подчинялись приказу. Последний оставшийся в роте солдат приволок носилки в штаб Даву в Вильне{880}.
Скрупулезное соблюдение дисциплины, а часто и самостоятельно взятых на себя обязанностей помогали людям пройти через горнило испытаний, но мало кто сумел превзойти в этом генерала Нарбонна. «Господину де Нарбонну было пятьдесят шесть лет, и он привык наслаждаться всей роскошью жизни, и все же его мужество и бодрость духа посреди наших несчастий заслуживают высочайших похвал, – писал Бонифас де Кастеллан. – Он носил старомодную придворную прическу и всегда пудрил волосы по утрам на бивуаке, часто сидя на бревне в самую скверную погоду, словно бы пребывал в весьма уютном будуаре»{881}.
Для некоторых способом укрепить в себе чувство гуманизма, а равно и средством поддержания самодисциплины служило ведение дневника. Такие выводы очевидны на примере Мориса де Таше, капитана 12-го конно-егерского полка и кузена императрицы Жозефины. Вот запись от 4 декабря, сделанная в его тридцать шестой день рожденья, когда он мог запросто переступить незримый порог, шагнув вниз: «Жуткий холод, безмолвный марш. Мысли о хорошем. Годовщина моего рождения. Поздравление от мамы… слезы… агония… Воспоминания о ней. Покрыли шесть лье. Остановились в деревне в четверти лье ходу от генштаба. Озноб и диарея»{882}.
Как отмечал сержант Бургонь, женщины переносили тяготы и нужду с большей волей, чем мужчины. По сделанному доктором Ларре наблюдению, горячие по крови южные европейцы оказывались крепче, чем немцы и голландцы, о чем говорили и другие. Однако никакая кровь не спасла чернокожего слугу, приобретенного в ходе Египетской кампании генералом Зайончеком. Бедняга замерз в российских снегах. По уверениям Альбрехта фон Муральта, баварского кавалериста, офицеры демонстрировали больше стойкости, нежели солдаты, поскольку первые, как правило, были наделены большей моральной сопротивляемостью и лучше образованы{883}.
Но звание имело мало общего с вероятно наиважнейшей составляющей силы, помогавшей людям держаться выше порога деградации. Преданность другим может стать средством спасения своей жизни. Луи-Франсуа Лежён как-то набрел на раненого артиллерийского офицера, ожидавшего на обочине дороги отставшего слугу. Два часа спустя, возвращаясь после выполнения задания, Лежён нашел того человека на том же месте и попытался уговорить его пойти и получить какой-нибудь еды неподалеку, а заодно предостерег артиллериста относительно риска замерзнуть, но тот ответил: «Все вы правильно говорите, но мы с моим слугой, Жоржем, вскормлены одной и той же женщиной. С того момента, как я поступил в армию, а в особенности после ранения он сотни раз доказывал мне свою преданность. Моя собственная мать не была бы так внимательна. Я пообещал дождаться его, а потому предпочту умереть тут на месте, чем нарушить слово»{884}.
Не только случаи с офицерами служат свидетельствами такой высокой верности другим. Одного офицера егерей, обморозившего ногу и лишившегося возможности передвигаться самостоятельно, всю дорогу в Вильну тянул мальчишка-полковой горнист на найденных ими маленьких санках. И подобных примеров множество. Капрал баварских шволежеров Иоганн Бальд отдал коня старшему офицеру, потерявшему лошадь в сражении. «Куда лучше спасти для короля офицера, чем простого капрала, каковой в любом случае скорее дойдет домой на своих сильных ногах», – объяснил он мотивы своего поступка{885}.
Капитан барон Карл фон Виднман, командир 1-й баварской легкой батареи, состоявшей при 4-м корпусе принца Евгения, сумел перебраться через Вопь в чем был, но когда жался у костра, пытаясь просушить одежду в ту ночь, его слуга пересек реку в обратном направлении, отыскал хозяйский экипаж, запихал ряд самых необходимых вещей в portmanteau и принес господину. Слуга Поля де Бургуана, парижский мальчишка, мужественно шел за господином, неся на спине посильную часть его имущества, и помогал ему всякий раз при устройстве на ночлег. Однажды ночью он куда-то подевался, и Бургуан напрасно прождал несколько часов, то и дело выкрикивая имя слуги, после чего лег спать. Посереди ночи он проснулся и увидел, что мальчишка поправляет меховую шкуру, из-под которой Бургуан выпростал ногу во сне. Следующим вечером он снова не появился, но на сей раз пропал навсегда{886}.