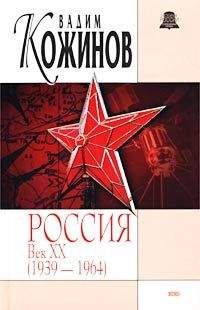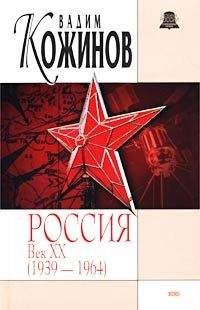Вадим Кожинов - Победы и беды России
Замечательное свойство поэзии Николая Рубцова — небывалая цельность в восприятии классических традиций. Даже крупнейшие предшественники Рубцова в отечественной поэзии, Заболоцкий и Твардовский, исходили в своем творчестве прежде всего из одной определенной линии в классическом наследии. Для Заболоцкого решающее значение имела тютчевская традиция, для Твардовского — некрасовская.
Между тем в поэтическом мире Рубцова тютчевская и некрасовская стихии явно как бы слились воедино, о чем уже не раз говорилось в работах о творчестве поэта. Конечно, это было не только личным завоеванием Рубцова, но и выражением самого хода времени, позволившего с нового рубежа воспринять, увидеть классическую поэзию как великое целое. Но все же именно творчество Николая Рубцова стало первым осуществлением этого видения.
Он смог совершить это потому, что его поэзия не только вдохновлялась великим наследием классики, но, повторяю, исходила из тех самых духовных родников народного бытия, которые как раз и явились основой и почвой отечественной классики.
Самый, пожалуй, неоспоримый признак истинной поэзии — ее способность вызывать ощущение самородности, нерукотворности, безначальности стиха; мнится, что стихи эти никто не создавал, что поэт только извлек их из вечной жизни родного слова, где они всегда — хотя и скрыто, тайно — пребывали. Толстой сказал об одной пушкинской рифме, то есть о наиболее «искусственном» элементе в поэзии: «Кажется, эта рифма так и существовала от века».
И это, конечно, свойство, характерное не только для пушкинской поэзии, но и для подлинной поэзии вообще. Лучшие стихи Николая Рубцова обладают этим редким свойством. Когда читаешь его стихи о журавлях:
…Вот летят, вот летят… Отворите скорее ворота!
Выходите скорей, чтоб взглянуть на высоких своих!
Вот замолкли — и вновь сиротеют душа и природа
Оттого, что — молчи! — так никто уж не выразит их…
— как-то трудно представить себе, что еще лет тридцать назад эти строки не существовали, что на их месте в русской поэзии была пустота.
Все, кто слышали стихотворения Николая Рубцова в его собственном исполнении, помнят, как, увлекаясь чтением, поэт сопровождал его характерными движениями рук, похожими на жесты дирижера или руководителя хора. Он словно управлял слышимой только ему звучащей стихией, которая жила где-то вне его, — то ли в недрах родной речи, то ли в завываниях ветра и лесном шуме Вологодчины, то ли в создаваемой веками музыке народной души, музыке, которая существует и тогда, когда никто не поет.
Замечательно, что Николай Рубцов не раз открыто сказал об этой своей способности, своем призвании слышать живущее в глубинах бытия, полное смысла звучание:
…И пенья нет, но ясно слышу я
Незримых певчих пенье хоровое…
…Я слышу печальные звуки,
Которых не слышит никто…
…Я брожу… Я слышу пенье…
…Словно слышится пение хора…
…О ветер, ветер! Как стонет в уши!
Как выражает живую душу!
Что сам не можешь, то может ветер
Сказать о жизни на целом свете…
…Спасибо, ветер! Я слышу, слышу!..
И наконец, как своего рода обобщение, — строки о Поэзии:
…Звенит — ее не остановишь.
А замолчит — напрасно стонешь!
Она незрима и вольна.
Прославит нас или унизит,
Но все равно возьмет свое!
И не она от нас зависит,
А мы зависим от нее…
Только на этих путях рождается подлинная поэзия, — о чем сказал Александр Блок в своем творческом завещании, речи «О назначении поэта»: «На бездонных глубинах… недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией, — катятся звуковые волны… Первое дело, которое требует от поэта его служение… поднять внешние покровы… приобщиться… к безначальной стихии, катящей звуковые волны.
Таинственное дело совершилось: покров снят, глубина открыта, звук принят в душу. Второе требование Аполлона заключается в том, чтобы поднятый из глубины… звук был заключен в прочную и осязательную форму слова; звуки и слова должны образовать единую гармонию».[181]
Предельно кратко, но точно сказал, в сущности, о том же самом Есенин, заметив, что он не «поэт для чего-то», а «поэт от чего-то».[182] Только «зависимость» от «безначальной стихии», звук которой поэт принимает в душу, способна породить истинную поэзию. («О чем писать? На то не наша воля!» — так начал одно из стихотворений Николай Рубцов.)
Конечно, необходимо еще заключить звук «в прочную и осязательную форму слова», что далеко не всегда удается. Но даже самая безусловная власть над словом не создаст ничего действительно ценного, если поэт не слышит и не понимает пенье незримых певчих, звон листвы, стон ветра, если он не способен принять в свою душу звук и смысл журавлиного рыдания, о котором Николай Рубцов сказал в уже упоминавшемся стихотворении:
…Широко на Руси машут птицам согласные руки.
И забытость болот, и утраты знобящих полей —
Это выразят все, как сказанье, небесные звуки,
Далеко разгласит улетающий плач журавлей…
Подавляющее большинство пишущих стихи делают это «для чего-то», формируя из своих — неизбежно ограниченных — впечатлений, мыслей и чувств соответствующую заданию стихотворную реальность.
Между тем в поэзии Николая Рубцова есть отблеск безграничности, ибо у него был дар всем существом слышать ту звучащую стихию, которая несоизмеримо больше и его, и любого из нас, — стихию народа, природы, Вселенной.
Обо всем этом по-своему сказал Михаил Лобанов в очень короткой, но глубокой статье о Рубцове — «Стихия ветра»: «Свое отношение к поэзии Николай Рубцов выразил словами: „И не она от нас зависит, а мы зависим от нее“. Он задает вопрос простой и значительный:
Скажите, знаете ли вы
О вьюгах что-нибудь такое:
Кто может их заставить выть?
Кто может их остановить,
Когда захочется покоя?
От того, как ответить на этот немудреный вопрос… зависит, собственно, судьба поэзии… Можно добиться того, чтобы отключать или включать вьюгу — для большего комфорта. И не чувствуем мы тотчас же, как сами отказались от чего-то необъятного, заполняющего нас и выводящего в стихию… Порвалась связь с самим представлением о бесконечном, без чего не может быть и глубокого смысла конечного… Что-то «жгучее, смертное» есть и в связи поэта с самой природой, ветром, вьюгой, вызывающими в его душе отклик чувств — мирных, тревожных, вплоть до трагических предчувствий…
Для Николая Рубцова было характерно такое самоуглубление, так же, как от «звезды полей», от красоты родной земли он шел к Вифлеемской звезде, к нравственным ценностям… Объемность образа и поэтической мысли невозможна при сугубо эмпирическом миросозерцании, она требует прорыва в глубины природы и духа».[183]
Высокие слова о поэзии Николая Рубцова отнюдь не означают, что в его стихах все вполне совершенно и прекрасно. У него не так уж мало совсем не удавшихся, не достигших, по слову Блока, гармонии слова и звука стихов, и даже во многих его лучших вещах есть неуверенные или просто неверные ноты (характерно, что и Михаил Лобанов в своей лаконичной статье счел необходимым упомянуть о недостаточной «грации» отдельных строф поэта). Вряд ли можно спорить с тем, что за свою короткую и очень трудную жизнь Николай Рубцов не смог обрести той творческой зрелости, которая была бы достойна его исключительно высокого дара.
Но все это отступает, все это забывается перед безусловной подлинностью его поэтического мироощущения, перед самородностью его слова и ритма:
Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи…
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.
Уже достаточно ясно и прочно утвердилось представление о подлинной народности рубцовской поэзии. Но необходимо отчетливо понимать, что это, собственно, означает, ибо о народности того или иного поэта часто говорят, основываясь на внешних — тематических и языковых — чертах его творчества, то есть в конечном счете на осваиваемом им «готовом» материале жизни и слова. Такая внешняя народность достижима без особого дара и творческого накала. Между тем народность Николая Рубцова осуществлена в самой сердцевине его поэзии, в том органическом единстве смысла и формы, которое определяет живую жизнь стиха.