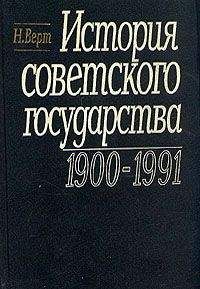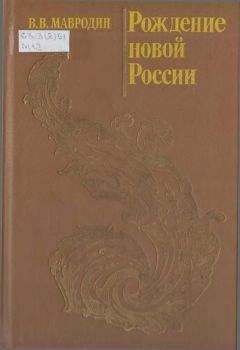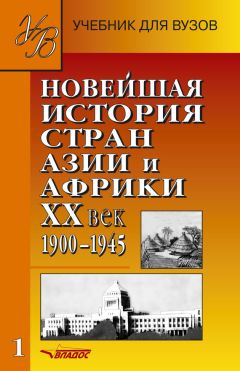Адам Замойский - 1812. Фатальный марш на Москву
Весь день Наполеон с тревогой прислушивался, ожидая грохота пушек, который мог бы свидетельствовать о приближении русских. Но признаки осознания Чичаговым допущенной им ошибки по-прежнему отсутствовали. В записке, написанной в тот вечер императором французов Марии-Луизе, не чувствовалось ни следа беспокойства{845}.
Если он и слышал канонаду, хотя она велась на расстоянии более десяти километров, то был погребальный звон по бригаде из соединения генерала Партуно, удерживавшей Борисов. Дивизия Партуно, лишь недавно вступившая в Россию, очень быстро ощутила на себе подавляющее воздействие трудных условий. Всего несколько суток назад, когда она вышла к Борисову, ее личный состав находился в отличном расположении духа. В какой-то момент французы подверглись атаке русской кавалерии и образовали каре. Один из русских офицеров, не будучи в состоянии справиться с раненым конем, вломился в середину строя, где был придавлен к заснеженной земле упавшим и дергавшимся животным. Двое французских солдат вытащили русского из-под лошади, отряхнули снег с его формы, а затем вернулись на свои места в огневой линии. Офицер выждал, когда внимание французов поглотило отражение следующего наскока русских. Улучив момент, он протиснулся между солдатами и побежал по глубокому снегу, проваливаясь в него, отчего все французское каре покатилось со смеху.
Но двое суток спустя, когда им пришлось постоять лагерем на пронизывающем ветру без костров и пищи, настроение сильно изменилось. «Одни плакали, жалобно вспоминая родителей, другие сходили с ума, третьи умирали на наших глазах в ужасных конвульсиях», – вспоминал один из них. Продержавшись в Борисове столько, сколько надо, во второй половине дня 27 ноября дивизия приступила к отходу. Но одна из бригад сбилась с пути и набрела прямо на армию Витгенштейна. После скороспелого боя, стоившего формированию половины личного состава, противник принудил французов сложить оружие[198]. Солдат обобрали, избили и погнали в неволю. Один из полков, 29-й легкий, состоял по большей части из людей, попавших в плавучие тюрьмы Англии после капитуляции на Сан-Доминго в 1801 г. и недавно выпущенных на свободу. «Должно признать, что удача совершенно покинула этих бедняг», – с грустью замечал Бонифас де Кастеллан{846}.
К тому времени Чичагов уразумел, что его провели. Большинство частей еще сосредотачивались в Борисове и в точках далее на юг от него, однако он приказал Чаплицу атаковать переправившиеся через Березину французские войска, обещая прислать подкрепления. Между тем солдаты, как раз перед тем прошагавшие около пятидесяти километров на юг форсированным маршем и получившие приказ следовать обратно, продвигались медленно. Многие чуть ли не открыто роптали, возникла угроза бунта. «Один из полков, коему я приказал идти и подкрепить Чаплица, заколебался, а потом и вовсе отказался двигаться, – писал Чичагов. – Увещевания мои не произвели никакого воздействия, и мне пришлось прибегнуть к угрозе открыть по ним огонь. Я велел отцепить от передков пушки и навести на них сзади». Как бы там ни было некоторые из частей Чичагова прибыли на усиление Чаплицу в ту ночь, а другие находились на подходе{847}.
Еще до наступления рассвета 28 ноября, когда Удино в спешке приканчивал согревающий тело soupe а l’oignon[199], приготовленный его штабными в котелке на костре, на западном берегу Березины зазвучали первые выстрелы: усиленные войска Чаплица наступали в северном направлении под прикрытием массированного артиллерийского огня. Удино организовал оборону и повел солдат в бой под губительным обстрелом русских орудий, однако был ранен осколком гранаты, получив, таким образом, двадцать второе ранение за свою карьеру. Наполеон, находившийся тут же и видевший ход боя, назначил командовать Нея с приказом любой ценой сдержать русских и прикрыть отступление остатков Grande Armée, отбившихся от своих солдат и, наконец, частей Виктора.
Задача была трудна, если не сказать невыполнима. Чаплиц и Чичагов располагали более чем 30 000 чел. свежих войск, не понесших прежде никаких серьезных боевых потерь, а у Нея наличествовало лишь от 12 000 до 14 000 измотанных и наполовину замерзших солдат: все что осталось от 2-го корпуса Удино, дивизии Домбровского и немногих уцелевших формирований 5-го корпуса Понятовского и Висленского легиона, плюс горстка других (собственный 3-й корпус маршала почти полностью прекратил существование, один полк насчитывал сорок два человека, другой – всего одиннадцать, а 25-я дивизия, изначально состоявшая из 12 батальонов вюртембергской пехоты, – 150 чел.). Три четверти из них даже не являлись французами. Почти половина приходилась на поляков, вдобавок четыре полка швейцарцев, 3-й пехотный полк Португальского легиона под командой майора ди Каштру, несколько сотен бойцов 3-го сводного хорватского полка и крошечный отряд голландских гренадеров Императорской гвардии. И вот эта пестрая компания встала на пути врага величественной стеной{848}.
Русские под командованием генерала Чаплица, поляка на российской службе, в большой силе продвигались по лесистой местности, но Ней послал против них поляков Домбровского, которые отбросили врага к исходным позициям. Затем к полю боя прибыли две наскоро переброшенные Чичаговым дивизии – соединения Воинова и Щербатова[200]. Они развернули массированное наступление при поддержке артиллерии, от снарядов которой в ряды поляков летели убийственные осколки сосен и елей. Домбровский получил ранение и передал командование генералу Зайончеку, которого и самого скоро унесли с поля с раздробленной ногой. Руководство боем взял на себя генерал Княжевич, но и он быстро вышел из строя. Когда поляки после рукопашной откатились и рассыпались среди деревьев, Ней усилил фронт, чем придется.
Несмотря на количественную слабость, части проявляли невероятное присутствие духа. 123-й (голландский) линейный пехотный полк, сократившийся до восьмидесяти солдат и пяти офицеров, пошел в бой с радостными возгласами. В какой-то момент пушечное ядро перебило ствол огромного дерева, которое, рухнув, погребло под собой дюжину солдат французского 5-го полка тиральеров Молодой гвардии, однако те все вылезли из-под него, хохоча, точно дети, среди рвущихся снарядов. Вскоре затем снаряд убил коня их полковника, он очутился на земле[201]. Солдаты бросились к нему на помощь, но тот уже вскочил на ноги с возгласом: «Я на месте, так пусть же каждый займет свое!»{849}
Чтобы ослабить неприятельский натиск, Ней бросил в бой генерала Думера с его кирасирами и три польских уланских полка[202]. Они атаковали русских, посеяли среди них панику и отбросили назад. Чаплиц был ранен, а генерал Щербатов попал в плен вместе с двумя тысячами других солдат и офицеров при двух знаменах[203]. Контратака русских гусар и драгун позволила выровнять положение, но швейцарские полки, сменившие французов на переднем крае, поддерживаемые голландцами, хорватами и португальцами, не сдали позиций.
Сражение бушевало целый день. Швейцарцы, расстреляв в ходе него все патроны, не менее семи раз бросались в штыковую. «То было нечто худшее, чем резня, – отмечал Жан-Марк Бюсси. – Всюду виднелась кровь на снежном насте, затвердевшем словно утоптанный земляной пол под ногами атаковавших и отступавших… Почти никто не смел посмотреть влево или вправо из страха увидеть, что ни там ни тут нет больше наших товарищей». Бой пылал настолько жаркий, что солдаты забыли о морозе и будоражили дух возгласами «Vive l'Empereur!» И вот, бросая вызов смерти, покуда та витала над ними и косила их в заледеневшем лесу, швейцарцы дружно грянули старую песню горцев «Unser Leben gleicht der Reise»[204]{850}. Сражение в тот вечер кончилось только в одиннадцать часов, когда русские, так и не сумев ни на шаг оттеснить защитников с их позиций, в конце концов, отказались от попытки смять их.
То была великолепная победа для французской стороны, но и очень горькая. Когда они разводили костры в ту ночь и тащили к ним раненых, чтобы укутать и согреть, здоровые знали: на следующий день их придется оставить. Четыре швейцарских полка потеряли тысячу человек, и теперь в частях осталось не более трех сотен. «Мы почти не смели заговорить друг с другом, опасаясь услышать весть о смерти еще кого-нибудь из наших товарищей», – вспоминал Бюсси. Из восьмидесяти семи вольтижеров его роты, еще в прошлую ночь смеявшихся у лагерных костров, в строю остались всего семеро. Состоявший из голландцев 123-й линейный пехотный полк прекратил существование. От 3-го (голландского) гренадерского полка Императорской гвардии остались восемнадцать офицеров и семь военнослужащих других званий{851}.