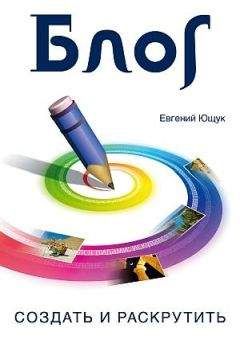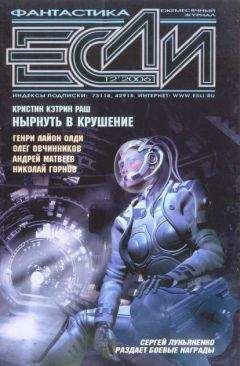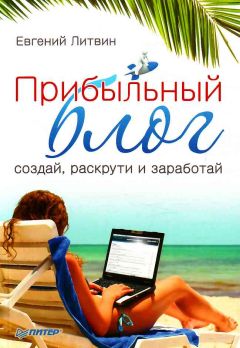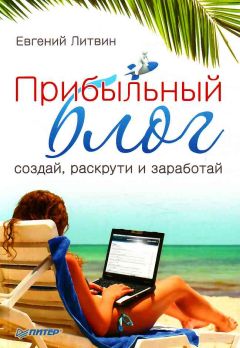Коллектив Авторов - Расцвет реализма
Формулы и поэтические афоризмы Гейне и Тютчева были созвучны формулировкам и конструкциям философской мысли их времени. Остроумие выражения идей в поэзии этих лириков обусловливалось представлением о том, что лаконизм и изящество отражают самую сущность мира. Так, «эпиграммный», по собственному его убеждению, характер многих лирических стихотворений Гейне с острой, парадоксально-неожиданной концовкой передавал восприятия мира человеческих отношений в его внутренне конфликтной, противоречивой сущности, в многозначности и непредсказуемости его ситуаций.
Уже в конце 20-х – начале 30-х гг. Тютчев создает стихотворения, в которых философская мысль является главным содержанием и определяет собою структуру произведения. Вместе с тем именно зримый и реальный (хотя порой и фантастический) образ служит средством выражения мысли. «Героем» этих произведений является познающий разум, инстинктивное стремление человека к познанию, а выразителем страсти к познанию – поэт. Стихотворение «Последний катаклизм», казалось бы, рисует картину гибели мира. Однако смысл этого произведения состоит не в мрачном пророчестве конца природы, не в изображении ужаса катастрофы, а в стоящей за этим образом мысли о первооснове всего сущего, познать которую поэт стремится с такой страстью и увлеченностью, что готов был бы заплатить за познание разрушением совершенной структуры мира. Лаконизм стихотворения, заключившего глубокую мысль и страстное чувство поэта в четверостишие, отражает простоту, стройность и содержательность элемента, основы, на которой покоится пестрый и разнообразный покров земной жизни.
То же стремление мгновенно «просиять», познать, приобщиться к «всеведению» богов и готовность во имя этого знания принести любые жертвы, та же решимость оправдать деструкцию, разрушение ради проникновения в суть конструкции таинственной в своей притягательности жизни выражены в стихотворении «Цицерон» (1830). Несмотря на то что стихотворение названо именем римского оратора и политического деятеля, героем его по сути дела является современная мысль, бросающая вызов разрушительным силам истории.
Тютчев превращает ораторское изречение – образ из речи Цицерона – в развернутую картину разрушения цивилизации, которое он уподобляет космическому катаклизму. Пересказывая слова Цицерона, поэт усиливает их образную зримость и затем с яростным максимализмом выражает готовность стать свидетелем и жертвой общественных катастроф, разоблачающих скрытые пружины исторического движения.
В выражении агрессивности познающего разума поэзия Тютчева родственна творчеству Гете, который герою, воплощающему страсть к познанию, придал в качестве постоянного спутника Духа разрушения – Мефистофеля, а ступени развития героя устлал жертвами.
Тютчеву не была чужда идея стихийного откровения, особого знания, данного поэту вне рациональной мысли, однако в отличие от романтиков и шеллингианцев он не «удовлетворялся» подобным знанием, не склонен был считать его высшим достижением человеческого духа, томился его неполнотой.
Тютчев не был адептом какой-либо единой философской системы, а тем более пропагандистом определенных философских воззрений, что справедливо утверждает ряд ученых, отмечая вместе с тем и близость некоторых его взглядов к Шеллингу, и связь их с Гете (В. В. Гиппиус, Б. Я. Бухштаб, Д. Н. Стремоухов, К. В. Пигарев).
Поэтизация природы, упование на возможность внелогического, стихийного проникновения в ее тайну сочетались у него со стремлением к абсолютному знанию, в котором слиты и «разрешены» логические, умственные усилия человека и стихийные, инстинктивные его устремления. Томлением по абсолютному знанию проникнуто стихотворение Тютчева «Видение» (1829). Его заключительное, «ударное» двустишие
Лишь Музы девственную душу
В пророческих тревожат боги снах![425]
– казалось бы, сентенция в духе философии откровения. Однако эта поэтическая формула не разрешает проблему, поставленную в стихотворении, а лишь усугубляет выраженное в нем чувство трагедийности изображенной ситуации. Беспамятство давит землю в то время, когда «Живая колесница мирозданья Открыто катится в святилище небес» и когда тайны ее доступны познающему разуму. Это беспамятство не рассеивается «пророческими» снами муз. Творческие сны лишь дают поэту осознать «беспамятство» как трагедию человечества и ощутить порыв к его преодолению.
Жажда познания здесь выражена с тем бо́льшим напряжением, что поэт чувствует близость живой сути, движущейся и открытой невидящим взорам. Мотив, переданный двумя эпитетами – «Живая колесница мирозданья Открыто катится в святилище небес», – чрезвычайно важен для Тютчева. Мы видели, что он готов был принять разрушение познаваемых структур во имя проникновения в их сущностные основы. В стихотворении «Последний катаклизм» момент познания совпадает с моментом разрушения состава земных веществ; в стихотворении «Цицерон» моментом познания закономерностей истории является распад цивилизации.
Особенно разительно подобное выражение страсти к познанию проявилось в стихотворении Тютчева «Я лютеран люблю богослуженье…» (1834). Стихотворение это столь парадоксально по своей идее, что тонкий исследователь творчества Тютчева Н. Я. Берковский определил выраженные в нем чувства как «почти саркастические в том, что относится к религии и к церковности».[426]
Между тем в этом стихотворении нет отрицания религии, как нет отрицания римской истории в «Цицероне»; очевидно, в данном случае не особенно занимает поэта и обличение реформации. Волнует его совершенно другой вопрос, увлекавший его всю жизнь, – вопрос о познании, о неистощимом водомете «смертной мысли».
Само начало стихотворения кажется непостижимым в соотнесении с биографией Тютчева и известными его политическими и религиозными воззрениями. Тютчев, утверждавший, что только православие является истинно христианской религией и что именно православная церковь, а не государство и политическая система, должна объединить народы вокруг России, заявляет в начале стихотворения о своей любви к лютеранскому богослужению и находит высокие прочувствованные слова для характеристики его обрядов:
Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой.
Уже из первого четверостишия читатель узнает, что источник этой любви кроется в том, что обряды лютеранской церкви раскрывают поэту нечто существенное в религии и в ее исторических судьбах.
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье.
Затем парадоксальность хода мысли поэта усиливается. Он любит богослужение потому, что видит в нем отражение распада веры, перехода религии в философию и безверие. Этот момент разрушения открывает сущность веры, дает понять, в частности, что былая пышность обряда отражала ее могущество и наивность. Анализ, вторжение разума разрушает основы религии, но разуму же в момент этого распада открывается и высокое значение веры:
Не видите ль? Собравшися в дорогу,
В последний раз вам вера предстоит:
Еще она не перешла порогу,
Но дом ее уж пуст и гол стоит, –
Еще она не перешла порогу,
Еще за ней не затворилась дверь…
Но час настал, пробил… молитесь богу,
В последний раз вы молитесь теперь.
Таким образом, присутствуя на лютеранском богослужении, поэт ощущает, что «посетил» храм в «минуты роковые» религии.
Идея постижения божества в момент его разрушения была столь прочно и органично присуща сознанию Тютчева, что этот образ был использован им в качестве поясняющего сравнения:
Давно ль, давно ль, о Юг блаженный,
Я зрел тебя лицом к лицу –
И ты, как бог разоблаченный,
Доступен был мне, пришлецу?
Передавая в своей поэзии страстное стремление к полному, отвергающему все ограничения, познанию («Фонтан», 1836), Тютчев делал лирическим сюжетом произведений и томление разума, жаждущего «мгновенного» прозрения, и поэтическое воплощение мечты о стихийном приобщении к мировой гармонии.
В стихотворении «Лебедь» (конец 20-х – начало 30-х гг.) за противопоставлением лебедя и орла стоит скрытое уподобление лебедя лирическому поэту-созерцателю, а орла романтическому бунтарю, гражданскому обличителю в поэзии. Этот подтекст почти не может быть расшифрован читателем – он обнаруживается с полной очевидностью лишь при сопоставлении стихотворения «Лебедь» со стихотворением Тютчева «Байрон. (Отрывок <Из Цедлица>)». Очевидно, мысль о различии двух типов поэтов была для Тютчева в стихотворении «Лебедь» несущественна. Главное противопоставление строится по другим «координатам». Душе, устремленной вверх, к солнцу, эффекту, противопоставляется созерцательная глубокая натура, способная приобщиться к вселенной в ее целостности.