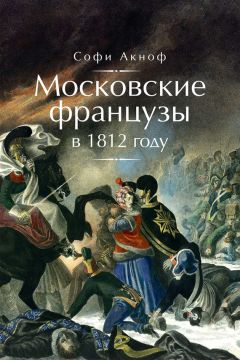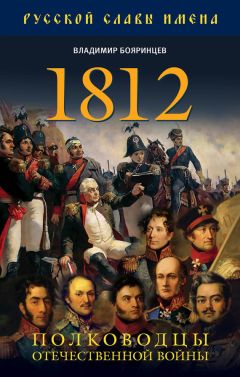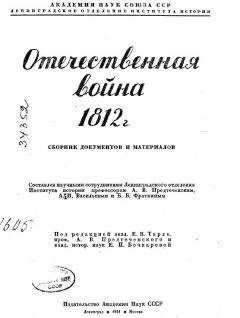Владимир Земцов - 1812 год. Пожар Москвы
Вероятно благодаря мартинисту[160] А.Я. Клейну[161] Михаил вскоре проникся интересом к политическим вопросам. Он начал с жадностью читать зарубежные книги на философские и политические темы. Но особый интерес вызывали у него новости, публиковавшиеся в иностранных газетах. Эти газеты он мог найти, бывая в кофейнях, которые являлись своего рода политическими и литературными салонами для неаристократической публики, либо на почтамте, в газетной экспедиции. Вскоре Верещагин открыл для себя еще одну, и наиболее ценную, возможность получения свежей информации — через сына почт-директора, своего тезки Михаила Ключарева, который был старше его на три года и учился в Московском университете. Квартира почт-директора помещалась тогда в прикрытом «громадным двухглавым орлом с распростертыми крыльями» бельведере, что возвышался над вторым этажом главного здания почтамта. Сюда попадали даже те иностранные газеты и журналы, которые не были пропущены цензурой. Согласно принятой тогда процедуре, цензоры, «прочитав журналы и отметя запрещенное в них карандашом, по одному номеру приносили в кабинет почт-директора для просмотра; сын Ключарева брал их», а затем делился ими с Верещагиным[162]. Так к Верещагину по-видимому и попал номер “Journal de department des bouches de l’Elbe oder Staats-und-Gelehrte-Zeitung des Hamburger unpartheischen Correspondenten”, содержавший письмо Наполеона к прусскому королю и его речь к князьям Рейнского союза. Стоит ли удивляться тому, что Верещагин не смог удержаться от того, чтобы не прочитать эти «зловредные» речи, когда новости о начавшейся войне с Наполеоном почти не доходили в Москву?
Где именно он на скорую руку перевел эти письмо и речь Наполеона — у себя ли дома, как он впоследствии утверждал, или, что скорее всего, в здании почтамта, — сказать невозможно. Но очевидно, что это произошло 17 июня 1812 г., ибо в тот же день, видимо ближе к вечеру, Михаил, не в силах сдержаться, решил прочитать эту записку своей мачехе Анне Алексеевне, сказав при этом «Вот что пишет злодей француз!» и добавив, что он сам это вычитал из немецких газет[163]. В комнате в то время оказалась и сводная сестра Михаила девочка Наталья. Но ни мачеха, ни сестра толком ничего и не поняли, уловив только, что Наполеон будто бы собирался скоро прийти в Москву. На это, как позже показала Анна Алексеевна, ею было сказано «на счет француза некоторыми бранными словами, и что намеревается делать»[164]. Когда в тот же день, к вечеру, Николай Гаврилович Верещагин возвратился домой, Анна Алексеевна сразу и сообщила ему как могла о том, что сын Михайло перед тем читал ей. Но, как было потом сказано в следственном деле, «по недоумению своему» толком ничего пересказать не могла. Тогда муж ее, не сдерживая любопытства на предмет сей бумаги, спросил, дома ли Михайло, но узнав, что сын уехал со двора, оставил это дело до утра.
По утру же Николай Гаврилович отправил в комнату сына девочку Дарью за той самой бумагой, которую Михаил и отправил ему. Прочитав бумагу, Верещагин-старший бросил ее на комод. Позже он мог только вспомнить, что записка начиналась со слов «Венценосные друзья Франции», и все было написано «до недоброжелательства к России», а также что та записка была на простой серой бумаге в четверку листа на обеих страницах, с небольшими в нескольких местах «черчением и поправкою слов»[165].
За обедом, когда отец и сын наконец встретились, Николай Гаврилович не преминул разразиться словами негодования в адрес французов и спросил, откуда Михаил взял эту «речь». На это Михаил прямо сказал, что получил ее от сына почт-директора Ключарева[166]. Впрочем, впоследствии Михаил говорил, что утверждал так исключительно потому, чтобы «сделать уверение справедливости» (то есть придать достоверность). Отец, продолжая негодовать, как и ранее, бросил записку на комод. Позже, когда Николай Гаврилович стал было искать эту записку, помня, что положил ее на комод, жена сказала, что приходил (вероятно в тот же день после обеда) сын и спрашивал, где та записка. Поэтому Николай Гаврилович и решил, что сын ее и взял. На следствии Верещагин-отец определенно утверждал (и показания Анны Алексеевны это подтвердили), что читанная им за обедом 17 июня записка была на простой серой бумаге, в четверку листа; бумага была исписана на обеих страницах «с небольшим в некоторых местах черчением и поправкою слов». Но это была не та самая записка, которую видел вечером того же дня в кофейне Мешков, а позже переписывал у себя на квартире. Мешков списывал, так сказать, «чистовой» вариант, сделанный Михаилом, видимо, в тот же день, 17 июня. Но куда делась черновая бумага, брошенная столь неосмотрительно отцом на комод? Когда обер-полицмейстер Петр Алексеевич Ивашкин привез арестованного Верещагина в дом Николая Гавриловича, Михаил на вопрос об этой записке заявил, что она «была изодрана и брошена»[167]. Возможно, это так и было…
Таков в общих чертах портрет главного героя нашего рассказа, жертвы, которая вскоре будет принесена на алтарь Отечества. Обратимся теперь к тому, кто принесет сию жертву, — к графу Федору Васильевичу Ростопчину.
Об этом человеке за 200 лет написано столь много, что мы не рискуем даже пытаться изложить здесь его биографию[168]. Отметим только, что к 1812 г. граф Ростопчин, определенно зарекомендовав себя как последовательный и яркий представитель «русской партии», активно включился в борьбу против всех «либералов», «мартинистов» и «государственных преступников», не пытаясь даже разделять их. Благодаря участию в. кн. Екатерины Павловны в мае 1812 г. император Александр I назначил Ростопчина главнокомандующим в Москве, дав одновременно чин генерала-от-инфантерии. Император пошел на этот шаг во многом вынужденно, перешагнув через свою антипатию к Ростопчину, понимая необходимость в условиях приближавшейся войны с Наполеоном опереться на «русскую партию». Так на посту почти ничем не ограниченного господина древней столицы и ее жителей оказался человек, личность которого до сих пор вызывает восхищение, сопряженное с ужасом и брезгливостью. Политическое кредо нового московского градоначальника было хорошо представлено несколькими годами раньше в его нашумевшем сочинении «Ох, французы!»: обязанностью населения является почитание начальства, а задачей начальства — сохранение незыблемости дворянских привилегий и защита их от галломанов и буйной черни. Но в голове Ростопчина (галлофоба, воспитанного на французских книжках и французской культуре!) эта схема усложнялась тем фактом, что, по его мнению, носителем идеологии политического рабства должен был быть независимый гражданин, действующий не по принуждению, а «по зову сердца»[169]. Будучи натурой яркой, талантливой и дерзкой, Ростопчин с первых шагов своей деятельности в Москве начал разыгрывать роль «народного барина», сочиняя знаменитые афишки, написанные балаганным языком, то распаляя простонародье ура-патриотическими призывами, то остужая энтузиазм, давая тем самым понять, кто же истинный хозяин в первопрестольной.
В этой обстановке основными объектами, с помощью которых Ростопчин достаточно успешно манипулировал чувствами простонародья, стали московские иностранцы и масоны. На протяжении лета 1812 г. полиция без устали выявляла и арестовывала тех иностранцев (в том числе и российских подданных), которые по неосмотрительности позволяли себе неосторожные высказывания по поводу войны с Наполеоном или были попросту оклеветаны русскими «патриотами» из корысти.
8 августа 40 «подозрительных» иностранцев, к которым добровольно присоединились 4 женщины с детьми, были погружены на баржу и под улюлюканье толпы были высланы из Москвы. Как заметил сам Ростопчин, он это сделал «для удовольствия народа»[170].
Но еще большим преследованиям, по мнению Ростопчина, должны были подвергнуться те русские, которые принадлежали к «секте мартинистов» и, по его логике, все как один были предателями. Главнокомандующий был свято убежден в том, что русский человек, если он не сумасшедший и если он не пьян, по определению не может проповедовать то, что связано с понятием свобода.
Еще задолго до войны 1812 г. Ростопчин составил знаменитую «Записку о мартинистах» для представлению ее вел. кн. Екатерине Павловне, что фактически и открыло ему дорогу в ее «тверской» политический салон, а затем привело на пост московского градоначальника. Представляли ли остатки масонских кружков в Москве, разгромленные еще при Екатерине II, какую-либо реальную политическую силу или хотя бы малейшую опасность для государства? Исследователи уже давно и убедительно дали на этот вопрос отрицательный ответ[171].
Но вот что думал сам Ростопчин на этот счет, у историков нет единого мнения. Если часть критиков Ростопчина, как, например, Кизеветтер, полагали разговоры о заговоре мартинистов плодом политической игры градоначальника для придания «крикливой суетливостью» важности и веса своей особе, то большинство авторов, к которым можно отнести не только апологетов Федора Васильевича (например, Любченко и Горностаева), но и историков либерально-критического направления (скажем, А.Н. Попова или А.Е. Ельницкого), отнесли это на счет его буйного воображения и человеческой несдержанности. Впрочем, и Любченко и Горностаев достаточно легко прощают Ростопчину эту «несдержанность», прибегая к любимой для «истинных патриотов» формуле «Лес рубят, щепки летят».