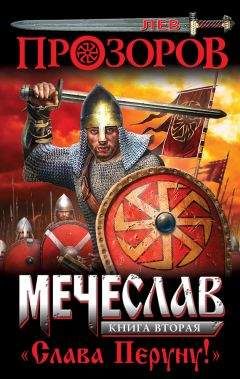Лев Прозоров - Русские герои. Святослав Храбрый и Евпатий Коловрат. «Иду на вы!» (сборник)
Один из них, постарше, выступил вперед. Поклонился:
– Доброго вечеру, Коловрат-воевода. Хлеб да соль!
Воевода, прежде чем ответить, пристально оглядел каждого. Откуда бы им знать имя, о котором никто, кроме него и его дружины, знать не может?
– И вам доброго вечера, охотнички, – неторопливо промолвил он. – Я б сказал «хлеба-соли кушати», только вот знаете ль, к кому на трапезу пришли?
– Как не знать, воевода, – ответил парень, глядя всё так же прямо. – Волхв наш про тебя нам сказал. К тебе под руку пришли. Меня Девятком кличут, это вон наши: Налист да Пестр. По роду Мирятичи все трое. Родня у нас тут… была.
Коловрат-воевода было снова рот открыл, да Сивоус вмешался:
– Погоди, воевода! Чего нам их гнать? Парни в своем праве – мести за родню хотят. Нам, может, и такие соратники лишними не будут.
– Не гони, воевода! Велесом-Богом просим! – встрепенулся Девятко. – Глядишь, чем и пригодимся!
Двое остальные молчали, пристально и тревожно глядя на Коловрата. Молчаливость их воеводе понравилась – поперёд старшего не лезут, рта, не спрошены, не разевают.
– Ворожбы тёмной, навьей, не испугаетесь? – хмуро спросил воевода новоявленных соратников.
– Пришли б мы сюда, навий воевода, – усмехнулся Девятко.
– Кормить не буду. Нечем. Сам вон, – с усмешкой кивнул на накрытую трапезу, – по добрым людям побираюсь.
– Охотой прокормимся, привычные! А от цинги при каждом ягоды да травы сушеные.
– А за конными поспеете?
Лица всех троих парней расплылись в улыбках. Девятко поднял со снега пару лыж, обшитых лоснящейся лосиной кожей.
– Не серчай, воевода, а по снегу мы тебя еще и перегоним.
Воевода вздохнул, выпустив серебристое в звездном свете облако пара.
– Ну, Мирятичи, вот вам мое слово. Испытывать вас недосуг, спорить долго тоже. Не в дружину беру, в подмогу. Перечить станете – назад отправлю. Вздумаете в бою перечить… там и ляжете. Всё ли ясно?
Парни, убрав с лиц улыбки, закивали.
Трапезничали вместе.
С живыми людьми всё же стало полегче. Не так тяжко было проезжать бесчисленные побоища и пожарища там, где недавно была жизнь. Даже ему, чужаку… А каково ж сейчас было им, побратимам по котлу Велесову? Это для него очередное черное пятно на берегу было безымянным, отличаясь от иных разве что размером.
Но не для них.
Вот, по правую руку, – Добрая Лука. Потом, по левую, – Петровичи. За ними, на том же берегу, – Казарь, здесь когда-то сидел козарский наместник-тудун, собиравший дань с вятичей, пока не пришел из Киева князь Святослав, не побил козарина. А своего наместника, кривича Резана, посадил пониже по Оке… Вороны кружат вдалеке над правым берегом Оки – там был Опаков. А вот эти засыпанные телами обугленные руины – Верхний Ольгов. А вот город, сравнимый с тем, где сидел Государь – Переяславль.
Был город.
Было Скорнищево.
Был Ожск.
Были.
Живые, кто остались, ушли – в лесистые верховья припавших к Оке речек – Истьи, Тысьи, Раки, Плетенки, Вожи.
Борисов-Глебов.
Перевитск.
Нет живых. Сытые вороны смотрят с обугленных венцов теремов и избушек. Серые тени мелькают по пожарищам.
Мертвая земля.
Только и знать, что не все полегли – навьи трапезы на снегу. Пеплом посыпанная поминальная снедь да короба с зерном.
В Любичах первый раз попытали дареную Велесову силу. Попробовали поднимать мёртвых. Слова дались легко, словно нашептывал кто. Тяжелее было смотреть на то, как отрываются от снега, с хрустом, с мясом, тела стариков, детей, жен. Как бредут одеревенело, как глядят в пустоту заледеневшими глазами. Как цепляются мёртвые дети за мёртвых матерей, жёны – за мужей, словно и сейчас помня себя – мутно, сквозь смертный сон, но помня…
И на то, как они падают наземь при первых лучах рассвета.
Былью обернулись старые сказы. Солнце убивало поднятых мертвецов. Без толку потрачены чьи-то непрожитые жизни, зачерпнутые в Велесовом котле, впустую. Умруны повалились колодами на розовый утренний снег. А они, навьи, мертвецкие пастухи, попятились в лесную тень от жгучих лучей, заслоняясь пятернями. Попутчиков-Мирятичей трясло, как листы на осине.
– Ну что, не раздумали с нами-то? – переспросил Коловрат, зажмурился, оскалил зубы по-волчьи на утренний свет, что ныне резал глаза ярче полуденного.
Девятко переглянулся с Пестром и Налистом – и все трое дружно затрясли головами.
– Глядите, – только и проронил воевода.
От солнца укрылись в овраге, обросшем мохнатыми старыми елями. Охотники-вятичи разложили костерок, грелись.
– Чурыня, – окликнул Догада. – А у тебя только батя певец был или и сам?
– Да вроде Хозяин тем не обидел…
– Так спой чего, что ли…
Последние ночи слышали они разве что пение волков, перекликающихся над сожженными городами. Вот про волка и споёт… Чурыня вдохнул морозный воздух.
Песню пропой мне, волк-одинец,
Зеленоглазый мой брат,
В час, когда туч пробивая свинец,
Зимние звезды горят.
Спой мне, что горе с тоской не навек,
Кончится время беды.
Спой мне, что скоро окрасят снег
Крови свежей следы.
Капает с белых клыков слюна,
В ноздри бьет страх чужака.
Кто говорит, будто кровь солона?
Врете – она сладка!
…Русскую землю укрыли снега,
Саван метели ей ткут,
Месяц острит молодые рога,
Холод предутренний лют.
В небе сквозь тучи звезда-студенец
Светом багровым сверкнет…
Песню печальную волк-одинец
Стылому бору поет.[2]
Долго молчали. Наконец, воевода Коловрат приоткрыл опустившиеся было веки, улыбнулся:
– Ладно поешь. На сердце… прояснело.
А старый Сивоус примолвил:
– Не зря твой отец с самим Бояном равнялся, видно.
Мертвых на побоищах больше не тревожили – покуда орды не видать. Уж чего-чего, а остывших тел нынче хватало, долго искать бы не пришлось. Вскоре же их увидали в числе попросту несказанном.
Там, где был город Коломна, тела в доспехах усыпали весь берег. Тела лежали на льду и даже за Окой – воины разбитой рати искали спасения там, в лесах… Добежали не все… если вовсе добежал кто. Другие пытались укрыться в городе. И на их плечах в город ворвался враг. Ворота так и остались распахнуты, как рот мертвеца, и вспухшим языком между челюстями казалась щетинящаяся от стрел груда мертвецов промеж створками.
– В самый бы раз, как Тугарину княжичу, когда он к той Маре-Марене ездил, окликнуть – есть ли, мол, живой человек… – оглядываясь, проговорил Чурыня. – А он бы нам сказал, что то за сила, кто побил…
– Нынче и живого не надобно. Так спросим, – хмыкнул Златко, бывший Гаврило.
– Вот уж не к чему, – покрутил усом Сивоус. – Вон щиты наши. А вон, гляньте, со львом-зверем на дыбках – володимерские. Выслал, видать, Юрий Всеволодович, подмогу, не в пример Михайле Черниговскому….
– …И всей той подмоги достало тут полечь… – проговорил Догада.
– Сивоусе, подъедь, – окликнул воевода. – Доспех знакомый…
Только по доспеху лежавшего и можно было признать. Головы не было – видать, разжился добычей чужак. Может, и царю своему отвез на потеху – доспех знатный. Дощатый набор, вроде позолоченный даже, с круглой пластиной-зерцалом на груди, на ней Богоматерь-Одигитрия воздела руки, оберегая. Рядом с щитком – дыра от удара копейного, что щит с львом-зверем расщепил. А портов нет – не побрезговали чужаки с покойного стащить.
– Как, поди, незнакомый, – проворчал старый гридень. – Еремей это, Глебов сын, воевода, что, слышал, Всеволоду Юрьевичу нынче служит… служил, стало быть. А мне ведь при отце твоем, воевода, с ним переведаться приходилось, как они на наш город ходили. Тогда думалось, злее врагов не будет… А теперь – как во сне всё привиделось.
Все замолкли. Звезды мерцали над еще одним мёртвым городом, над побитой ратью двух князей.
От ворот города радостно закричал Глуздырь:
– Живые! Воевода, живых нашли!
– Ну, Чурыня, вот тебе твой «живой человек», – усмехнулся Сивоус, поворачивая коня на крик.
Живой, по правде сказать, был один. Взъерошенный парень, с молодой светлой бородою, в кольчуге поверх стеганого подлатника, в прилбице и без шлема.
– Кто таков будешь? – спросил с седла воевода.
– А ты это, добрый человек, вон у того своего гридня спроси, – ткнул «живой человек» пальцем в Головню. – Он, как послушать, про меня много чего такого знает, чего и сам за собой не ведаю. И с матушкой был знаком, и с бабкой… а с виду и не скажешь…
– Кольчугу изгадил, паскуда, – огрызнулся на взгляд воеводы рыжий гридень. – И кольчугу, и тулуп, и рубаху… да и больно, мать твою через тын…
– Кто ж тя разберет по ночи-то, кто ты есть, – без раскаяния пожал плечами светлобородый. – Думал, поганин отбившийся… слышу – верхом, а мне б конь не помешал. Я, промеж прочим, и по сю пору не знаю, кто вы такие. Что не нелюди эти, уже разобрался.
– Не эти, – усмехнулся Чурыня. – Не эти, другие…