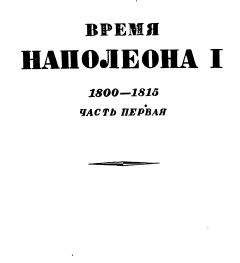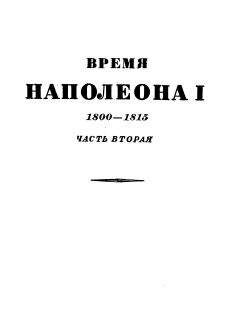Эрнест Лависс - Том 3. Время реакции и конситуционные монархии. 1815-1847. Часть первая
Выражать философские идеи в ясных поэтических символах — в этом преимущественно и заключался талант Виньи, как это обнаруживается в Элоа (Eloa), в Моисее (Mo'ise), в Бутылке, брошенной в море (Bouteille а la тег) и в Домике пастуха (Maison du Berger), Вместе с тем, как это видно на примере таких произведений, как Фрегат Ла Серьез (Fre-gateLa Serieuse), Самсон (Samson) и некоторых других, Виньи обладал колоритностью, рельефностью и силой рисунка, которые сами по себе уже ставили его выше обыкновенных так называемых талантливых поэтов. Не будучи столь же сильным в области прозы, он оставил исторический роман Сен-Map, некоторые части которого в самом деле превосходны, и в особенности сборник новелл, озаглавленный Рабство и величие солдата (Servitude et grandeur militaires), написанных с таким чувством, а порою с такой трагической величавостью, что эти рассказы, насквозь проникнутые жалостью к страдающему человечеству, врезаются в память читателя, почти как личные переживания.
Удивительная судьба постигла де Виньи. Почитаемый, но причисленный ко второму рангу или, во всяком случае, оказавшийся во мнении современников несколько ниже первого — или потому, что философская основа, имевшаяся у него и отсутствовавшая у других, сбивала с толку и скорее отталкивала, чем привлекала читателя, или потому, что пессимистическая философия отнюдь не соответствовала настроениям эпохи, — он неожиданно сделался любимым писателем последующих поколений, которые, с одной стороны, считают себя более философски образованными и хотят, чтобы у поэта тоже была своя философия, и которые, с другой стороны, по многим причинам склоняются к более или менее пессимистической концепции вселенной. Как бы там ни было, де Виньи все же останется крупным поэтом, быть может, не очень плодовитым, но импонирующим несколько презрительным высокомерием своей мысли, могучей красотой воображения и совершенством формы большей части его произведений.
Виктор Гюго. Так как литературная деятельность Виктора Гюго продолжалась более 60 лет, то он принадлежит и к рассматриваемому периоду и к последующему. Здесь мы коснемся только той роли, которую Гюго играл до 1830 года.
Не отличаясь такой силою мысли, как Шатобриан, Ламартин и Виньи, Виктор Гюго на первых порах привлек внимание публики изяществом и красотой слога, что всегда, впрочем, оставалось его главным достоинством. Далеко превосходя всех своих соперников гибкостью, будучи настоящим виртуозом стиля, он мог по желанию говорить языком средневековым, или навевавшим мысль о Востоке, или дававшим понятие о Ренессансе, или переносившим читателя в первую половину XVII столетия. Гюго сочинял оды в духе Малерба, баллады, восточные стихотворения, эпические и лирические театральные пьесы.
Современники удивлялись этой разносторонности таланта Гюго; она свидетельствовала о способности художника следовать за веком, никогда резко не выставляя собственной индивидуальности и всегда выражая ходячую мысль общества, но на языке, свойственном ему одному. Ловкость и уменье шутя разрешать трудности, самому создавать и побеждать их как бы для развлечения, понимание красок, глубокое и почти насильственное проникновение в природу материальных вещей, чувство ритма, настолько безошибочное, что в этом отношении его мог превзойти или сравняться с ним только Лафонтен, — таковы были поразительные дарования этого человека, которые он обнаружил с первых же шагов своей литературной деятельности и которые он сохранил навсегда. Эти качества почти до самого конца прикрывали банальность идей Гюго, условность его чувствований и почти полное отсутствие оригинальности ума. Изумляя своих первых читателей, Гюго в то же время очаровывал их то своими лирическими стихотворениями, то своими театральными пьесами, загроможденными, странными, причудливыми, красноречивыми и музыкальными, которые, в сущности, были операми, переряженными в трагедии; и люди задавали себе вопрос: уж не народился ли новый гений, равный Шекспиру, но еще едва научившийся лепетать, или это всего-навсего блестящий ритор, которому суждено бесследно исчезнуть, как только испарится пыл молодости и потухнет сверкающий фейерверк пламенного воображения?
Но романтики в собственном смысле слова признали в Гюго своего главу, так как они инстинктивно чувствовали, что этим главой должен быть виртуоз по преимуществу, что чудесная программа, начертанная Шатобрианом, трудно выполнима по своей широте и что в данный момент необходима не истинная, великая и справедливая реакция против черствости литературы 1800 года, а реакция, бросающаяся в глаза, прельщающая широкую публику и способная противопоставить элегантной трезвенности 1810 года фантастическую форму и пышность выражений.
Театр. Наконец, трагедия окончательно преобразовалась. Мы тут видим и простое видоизменение старой трагедии, которое дал Казимир Делавинь, ограничившийся употреблением более яркого слога и введением лирического оттенка, в чем и выразилась уступка новым вкусам; мы видим и формально более глубокое изменение, сделанное Виктором Гюго, который распрощался с теорией трех единств, не доходя, впрочем, до свободы английского и испанского театра, и который любил смесь или контраст комического и трагического; мы видим и действительную революцию, произведенную Александром Дюма, который, вернувшись к исторической драме в прозе (до сих пор драма Лемерсье Пинто была почти единственным образцом в этом роде), решительно сдал в архив трагедию в стихах — корректную, холодную, несколько тягучую и немного пустую. Трагический театр становился более современным, более живым, более страстным, а также более вульгарным, приноровлялся к новой публике, более многочисленной, более простонародной, не знавшей правил, древних образцов и истории, — публике, которая умела чутьем разбираться в истинных и основных качествах драмы, но главным образом требовала, чтобы пьеса интересовала ее и волновала.
Сицилийская вечерня (1819) и Пария (1821) Казимира Де-лавиня; Кромвель Гюго и его же Предисловие к Кромвелю, этот манифест романтического театра (1827); Марион Делорм Гюго (1829); Генрих III и его двор (1829) Дюма — отвечали на эти запросы публики и соответствовали новым условиям драматического искусства, в то время как некоторые новые опыты акклиматизации Шекспира — Отелло де Виньи (1829) — способствовали эмансипированному движению и освящали блестящим примером все уклонения новаторов.
Комедия, как и следовало ожидать в эпоху столь повышенных литературных претензий, находилась в некотором упадке. Однако Казимир Делавинь, человек выдающийся, который несколько заблуждался, считая себя трагиком, но при своем остроумии и наблюдательности чувствовал себя гораздо свободнее в области комедии, последовательно дал для сцены в 1820 году Комедиантов, в 1823 году — превосходную драматическую комедию Школа старцев и в 1829 году — пикантную и грациозную романтическую комедию Принцесса Аврелия, созданную отчасти под влиянием корнелевского Дона Санчо. В сравнении с комедиями Колэн д'Арлевиля илиПикара комические пьесы Делавиня представляют большой шаг вперед и, можно сказать, почти возрождение. Во всяком случае, появление их — очень важное событие, на которое далеко не всегда обращают должное внимание в истории французской комедии.
Вне рамок романтического движения период 1815–1830 годов выдвинул целый ряд замечательных произведений, которые в такой же, а, пожалуй, и в большей мере, чем сочинения романтиков, представляют характерные признаки французского духа, рассматриваемого в его специфической последовательности и в его естественном развитии. Даже в области поэзии, где первое место принадлежит названным выше писателям, не следует забывать человека, выдававшегося своим умом и искусством, способного при этом на сильное выражение чувства, мастера в своей ограниченной области, человека, который производит впечатление прекрасного поэта XVIII века, случайно попавшего в XIX столетие.
Жан де Беранже. Никто не был настолько человеком своего времени, способным в такой степени разделять все его политические страсти, склонности и предрассудки, и никто не стоял так далеко от своей эпохи с точки зрения литературных идей и модных вкусов, как Беранже. Прямой наследник сатирических и эпиграмматических поэтов предыдущего поколения, поклонник «славного Панара», шансонетного певца середины XVIII века, страстно привязанный к Парни, он начал с 1812 года сочинять сатирические песенки, проникнутые веселой язвительностью, остроумием и хитростью, полные намеков и недомолвок, блещущие тонкой и тщательной отделкой. Люди, не любившие этих песенок, говорили: «Быть может, их следовало бы послушать в пении»; но с большинством из этих шансонеток, и как раз с лучшими, дело обстоит как раз наоборот. Их отличительная черта заключается не в увлекательной горячности, а в лукавстве и в язвительной насмешке, наполовину скрытой, но тем не менее прямо бьющей в цель. Эти песенки хороши именно при вдумчивом и внимательном чтении, если читатель способен сознательно относиться к читаемому и сам обладает остроумием, но они проходят незаметно, вне поля зрения человека, привыкшего к лиризму и громким фразам; или же их следует медленно декламировать (а не петь) человеку, мастерски владеющему дикцией и способному обратить внимание слушателей на изящные тонкости, на обдуманные намеки и на необыкновенно точные и удачные выражения. Таким именно образом необходимо читать или декламировать песни Старый чердак (Le vieux grenier), Добрый старик (Le Ъоп vieillard), Добрая старушка (La bonne vieille), Король Ивето (Le Hoi d'Yvetot), Старый фрак (Le vieil habit) и др., которые в своем роде представляют собою маленькие шедевры.