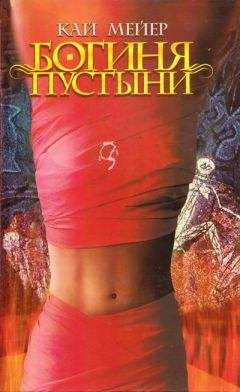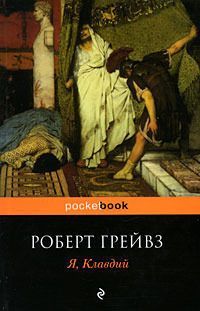Роберт Грейвз - Белая Богиня
Трещина, разделяющая теперь христианство и поэзию, в сущности та же, что разделила иудаизм и культ Аштарот в результате религиозной реформации после изгнания. Различные попытки сблизить их, предпринятые климентинцами, манихеями и другими раннехристианскими еретиками, а также паломниками, поклонявшимися Деве Марии, и трубадурами времен крестовых походов, наложили свой отпечаток на церковные ритуалы и доктрины, но потом были сведены на нет сильной пуританской реакцией. Стало невозможно соединять когда-то идентичные функции священника и поэта без ущерба для того или другого, как видно на примере англичан, которые продолжали писать стихи после своего рукоположения: Джона Скелтона, Джона Донна, Ричарда Крэшо, Джорджа Герберта, Роберта Геррика, Джонатана Свифта, Джорджа Крабба, Джерарда Мэнли Хопкинса. Поэт легко выживает лишь там, где священнику указывают на дверь. Так случилось со Скелтоном, когда он объявил о своем неприятии церковной дисциплины и вышил шелком и золотом имя музы «Каллиопа» на сутане. Геррик же доказал свою преданность поэтическому мифу, опаивая девонширским ячменным элем из серебряной чаши избалованную белую свинью. Что касается Донна, Крэшо и Хопкинса, то здесь война поэта со священником велась на высоком мистическом уровне, но разве можно сравнить «Священные стихи» Донна, написанные после смерти Анны Мор, его единственной Музы, с его любовными «Песнями и сонетами»? И стоит ли хвалить Хопкинса за то, что он покорно подчинил свои поэтические экстазы исповедальне?
В главе первой я писал, что о поэте можно судить по тому, насколько точно он изображает Белую Богиню. Шекспир знал и боялся ее. Не стоит заблуждаться насчет его глупеньких пассажей о любви в ранней поэме «Венера и Адонис» или невероятной мифологической путаницы в «Сне в летнюю ночь», где Тесей появляется в обличье елизаветинского щеголя, Три Парки, давшие имена феям, — как эксцентричные Душистый Горошек, Паутинка и Горчичное Зерно, Геракл — как озорной Робин Добрый Малый, Лев с Твердой Рукой — как столяр Миляга, а самые страшные из всех — Дикий Осел Сет-Дионис и Небесная Царица в диадеме из звезд — как ослоухий Основа и Титания в блестящей мишуре. С гораздо большей искренностью он показывает ее в «Макбете» — как Тройственную Гекату, властвующую над ведьминским котлом, ибо ее дух вселяется в леди Макбет и вдохновляет ее на убийство короля Дункана, или в «Антонии и Клеопатре» — как обольстительную и распутную Клеопатру, чья любовь погубила Антония. В последний раз она появляется в пьесах как «проклятая ведьма Сикоракса» в «Буре»[229]. Шекспир устами своего персонажа Просперо заявляет, что с помощью своих магических книг одолеет ее, сокрушит ее мощь и сделает своим рабом ее чудовищного сына Калибана, прежде под видом расположения к нему выведав у него все секреты. Однако он не в состоянии изменить ни название острова, ни цвет голубых глаз Сикораксы, хотя «голубоглазый» на елизаветинском сленге означало также «голубой ободок распутства». Сикоракса, на чью связь с Керридвен было указано в главе восьмой, явилась на остров в лодке вместе с Калибаном, как Даная приплыла на Сериф из Аргоса с младенцем Персеем или Латона — на Делос с еще не родившимся Аполлоном. Она была богиней, управлявшей видимой луной — «приливы и отливы ей подвластны». Шекспир говорит, что она изгнана из Argiers (Аргос?)[230] за колдовство, но он поэтически справедлив к Калибану, ибо вкладывает в его уста настоящую поэзию:
Be not afeared; the isle is full of noises,
Sounds and sweet airs that give delight and hurt not,
Sometimes a thousand twangling instruments
Will hum about mine ears; and sometime voices,
That if I then had wak 'd after long sleep
Will make me sleep again: and then in dreaming
The clouds methought would open and show riches
Ready to drop upon me; that, when I wak 'd
I cried to dream again.
(He бойся: этот остров полон шумов
И звуков, нежных, радостных, невнятных
Порой. Сотни громких инструментов
Доносятся до слуха. То вдруг голос,
И сам он меня от сна пробудит,
Опять навеет сон; во сне же снится,
Что будто облака хотят, раздавшись,
Меня осыпать золотом. Проснусь
И вновь о сне прошу[231].)
Надо отметить, что алогичное сочетание времен тут формирует идеальное представление о времени.
Донн слепо поклонялся Белой Богине в обличье женщины, которую он сделал своей Музой. Он настолько был не в состоянии вспомнить ее внешность, что написал лишь, как видел свои влюбленные глаза в ее глазах. В «Лихорадке» он зовет ее «душою мира», потому что если она покинет его, то мир будет всего лишь ее трупом. И еще:
Thy beauty and all parts which are thee
Are unchangeable firmament.
(Твоя красота и все, что тебя составляет,
Неизменный небесный свод.)
Джон Клэр писал: «Сны о красоте, о женском божестве внушали моему воображению самое возвышенное представление о прекрасном; вот и прошлой ночью богиня явилась мне столь живо мечтою моих снов, что мне больше не приходит в голову сомневаться в ее существовании. Поэтому я записал свои видения, не желая расставаться со счастливой верой в нее, как в моего ангела-хранителя».
Китс видел Белую Богиню как La Belle Dame Sans Merci. У нее длинные волосы, легкие шаги и дикий огонь в глазах, но Китс, что интересно, лилеи с ее чела переносит на чела её жертв и заставляет рыцаря сажать ее на своего коня, вместо того чтобы садиться на ее коня, подобно Ойсину, которого увезла с собой Ниав Золотоволосая. Любопытно также, что Китс писал с жалостью о Ламии, богине-змее, словно она была несчастной Гретхен или Гризельдой.
Стихотворение «La Belle Dame Sans Mersi» требует детального рассмотрения в свете Темы. Я привожу его здесь в таком виде, в каком оно впервые появилось в печати, взятое из письма Китса брату Джорджу в Америку, с несколькими шутливыми замечаниями. Зачеркнутые слова заключены в скобки:
Вечер, Среда[232]
La Belle Dame Sans Mersi[233]О What can ail thee Knight at arms
Alone and palely loitering?
The sedge is withered from the Lake
And no birds sing!
О What can ail thee Knight at arms
So haggard and so woe begone?
The squirrel's granary is full
And the harvest's done.
I see [death's] a lily on thy brow
With anguish moist and fever dew,
And on thy cheeks a fading rose
Fast Withereth too —
I met a Lady in the [Wilds] Meads
Full beautiful, a faery's child
Her hair was long, her foot was light
And her eyes were wild —
I made a Garland for her head,
And bracelets too, and fragrant Zone,
She look 'd at me as she did love
And made sweet moan —
I set her on my pacing steed
And nothing else saw all day long,
For sidelong would she bend and sing
A faery's song —
She found me roots of relish sweet
And honey wild and [honey] manna dew,
And sure in language strange she said
I love thee true —
She took me to her elfin grot
And there she wept [and there she sighed]
and sighed full sore,
And there I shut her wild wild eyes
With kisses four.
And there she lulled me asleep
And there I dream 'd Ah Woe betide!
The latest dream I ever dreamt
On the cold hill side.
I saw pale Kings, and Princes too
Pale warriors death pale were they all
Who cried La belle dame sans mersi
Thee hath in thrall.
I saw their starv 'd lips in the gloam
[All tremble]
With horrid warning [wide agape] gaped wide,
And I awoke, and found me here
On the cold hill's side
And this is why I [wiher] sojourn here
Alone and palely loitering;
Though the sedge is withered from the Lake
And no birds sing — …
1
«Зачем, о рыцарь, бродишь ты
Печален, бледен, одинок?
Поник тростник, не слышно птиц,
И поздний лист поблек.
2
Зачем, о рыцарь, бродишь ты,
Какая боль в душе твоей?
Полны у белок закрома,
Весь хлеб свезен с полей.
3
Смотри: как лилия в росе,
Твой влажен лоб, ты занемог,
В твоих глазах застывший страх,
У вяли розы щек».
4
Я встретил деву на лугу,
Она мне шла навстречу с гор.
Летящий шаг, цветы в кудрях,
Блестящий дикий взор.
5
Я сплел из трав душистых ей
Венок, и пояс, и браслет
И вдруг увидел нежный взгляд,
Услышал вздох в ответ.
6
Я взял ее в седло свое,
Весь долгий день был только с ней.
Она глядела молча вдаль
Иль пела песню фей.
7
Нашла мне сладкий корешок,
Дала мне манну, дикий мед.
И странно прошептала вдруг:
«Любовь не ждет!»
8
Ввела меня в волшебный грот
И стала плакать и стенать.
И было дикие глаза
Так странно целовать.
9
И убаюкала меня,
И на холодной крутизне
Я все забыл в холодном сне,
В последнем сне.
10
Мне снились рыцари любви,
Их боль, их бедность, вопль и хрип:
«La belle dame sans mersi
Ты видел, ты погиб!»
11
Из жадных, из разверстых губ
Живая боль кричала мне,
И я проснулся — я лежал
На льдистой крутизне.
12
И с той поры мне места нет,
Брожу, печален, одинок,
Хотя не слышно больше птиц
И поздний лист поблек.
Почему четыре поцелуя, скажете вы, почему четыре поцелуя? Да потому что я хотел обуздать опрометчивую безудержную пылкость моей Музы, ведь она готова была сказать двадцать, не портя мне рифму, но мы должны держать Воображение в узде, как сказали бы Критики, вынося свой Приговор. Мне нужно было выбрать такое число, чтобы обоим глазам досталось поровну, и, если честно, по два — то, что надо. Представляешь, я бы сказал «семь», тогда получилось бы по три с половиной и было бы ужасно с моей стороны…