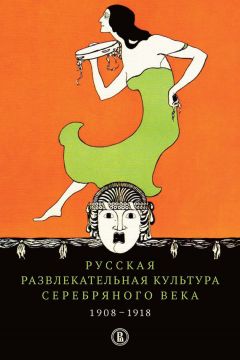Николай Богомолов - Вокруг «Серебряного века»
В заключение позволим себе отметить еще внешнюю связь стихотворения Крученых. Как кажется, оно стало претекстом известного четверостишия Маяковского из «Приказа по армии искусств»:
Громоздите за звуком звук вы
и вперед,
поя и свища.
Есть еще хорошие буквы:
Эр,
Ша,
Ща[852].
Помимо звукового образа всего стихотворения Крученых (особенно первой и двух последних его строк), первые два стиха Маяковского практически полностью анаграммируют саму фамилию Крученых — если понимать букву «щ» не как традиционное московское «ш» долгое мягкое, а как петербургское «ш’ч’»[853], то в этих строках для полной анаграммы недостает лишь буквы (или звука) «н»[854]. Но и вся звуковая фактура, с самого начала стихотворения, ориентирована на «Дыр бул щыл». Так, уже в первой строке рассыпаны «ды», «р», «б», «л», во второй находим два ударных «у», третья начинается призывом: «Товарищи!» с отчетливым «щи», и т. д.
Как нам представляется, в 1918 году Маяковский, сочиняя свой «приказ», основывался не только на прямом смысле своих лозунгов, но вдобавок к этому использовал звуковой строй прославленного стихотворения давнего соратника по будетлянству, находившегося в тот момент вне поля непосредственного зрения, на Кавказе. И, судя по воспоминаниям, Крученых чувствовал особую близость этого стихотворения к своей поэтической системе, свидетельством чему служит один из выше приведенных нами его текстов.
Сергей Ауслендер: стилизация или стиль?[*]
Появление первого с 1930 года издания сочинений С. Ауслендера[856] (а последние книги — точнее, небольшие брошюры — для взрослых и вовсе появились в свет в 1919 году) имело все шансы стать точкой отталкивания для разнообразных суждений о творчестве этого незаурядного писателя. Однако помимо резко негативного отзыва о самом издании[857] иных работ как литературоведческого, так и литературно-критического толка нам не встретилось, и едва ли не единственной работой такого толка, помимо предисловия А. М. Грачевой к названному выше изданию, остается и по сей день статья З. Г. Минц «К изучению периода „кризиса символизма“ (1907–1910)», где раннее творчество Ауслендера вписано в контекст зарождения постсимволизма[858]. Однако, как нам представляется, его произведения заслуживают и специального изучения, дающего возможность несколько иначе оценить и перспективу, в которой оно должно восприниматься.
Прежде всего это касается репутации писателя как стилизатора, которая сложилась с первых же его печатных выступлений и упорно держится до сих пор. И в предисловии А. М. Грачевой говорится о том же: «Сборник <„Золотые яблоки“> составлен из текстов-стилизаций, написанных под прямым влиянием прозы Анатоля Франса и М. Кузмина» (С. 16). Однако, кажется, точнее была З. Г. Минц, писавшая: «Как художественные структуры модернистские „стилизации“ отличаются не только от близких им явлений символистской литературы, но и от стилизаций более традиционных типов. Они ориентированы не на „чужое слово“ и даже не на „чужой текст“ <…>, а на сам феномен искусства, в котором акцентируется именно „искусственность“ отделенность от реальности»[859]. Пожалуй, с этим определением применительно к творчеству Ауслендера и можно было бы согласиться, если бы не явная тем самым условность термина «стилизация», который не случайно исследовательница употребляет в кавычках, — такая своеобразная стилизация, которая стилизацией не является.
Однако, как представляется, точнее всех о поэтике произведения Ауслендера написал в основательно забытой статье его родственник, брат первой жены, Е. А. Зноско-Боровский, откликаясь на известие о мнимой смерти шурина: «С первых же литературных опытов он попал на свою полочку, и на него был нацеплен ярлык, относивший его к числу „стилизаторов“, так что долго спустя на его долю приходились все выпады и насмешки, которые предназначались им. А этот „стилизатор“ Франции XVIII в. и ее революции даже не владел французским языком: стилизация его оказывалась, таким образом, из вторых рук.
Но за нею скрывалась та большая работа, которая производилась молодым писателем над русской прозой и которая позволила ему постепенно создать свой собственный язык, лишенный, правда, силы и мужественности, но очень четкий, с превосходно построенными фразами, находчивой расстановкой слов и необычайно выпуклыми зрительными образами.
Приходится сознаться, что русская проза, отягощенная психологическими и религиозными проблемами, в значительной степени перестала интересовать многих наших писателей сама по себе, своими законами и свойствами. Чистота и живописность Пушкина и Лермонтова почти утрачены. И как поэты конца XIX и начала XX века вернули стиху его самоценность, то же самое должно быть сделано и в отношении прозы.
Сергей Ауслендер был один из тех, кто сознал эту задачу и своим путем шел к ее разрешению. Приверженность к XVIII и первым десятилетиям XIX в. указала ему время, где искать образцов. Но по мере того, как он уходил от этой эпохи в своих произведениях, его слог терял архаическую жеманность и манерность, сохраняя, однако, все черты безупречного строения и отчетливой изобразительности. А эти черты были необходимы писателю по самому характеру его творчества»[860].
Действительно, стилизация представляет собой ориентацию на чужой стиль, а через него — на чужое слово, о чем выразительно писал Бахтин. Для того чтобы признать чье-либо искусство стилизованным, необходимо найти образец для имитации, к тому же имитации, направленной на развитие потенциальных возможностей, заложенных в оригинальном стиле, но делая это направление условным (без этого Бахтин именует такой стиль подражанием). Как нам представляется, в случае Ауслендера это если не вовсе невозможно, то весьма затруднительно, поскольку его произведения, начиная от самых ранних, вышедших в широкую печать, ориентированы на другой способ обращения с прецедентными текстами, отчасти уловленный Зноско-Боровским. В ранних произведениях используются отдельные реалии, как имеющие отношение к истории выбранного для хронологического удаления времени, так и географические, и предметные. Скажем, в начале рассказа «Вечер у господина де Севираж» такими опорными реалиями являются казни, якобинцы, Друг Народа, санкюлоты — как исторические приметы; Версаль и Сена — как географические; розовый шелковый костюм, пышный парик с голубой лентой, шпага с поломанной рукоятью, мушки, мужская пудра — как предметные.
Самый же стиль остается вполне нейтральным: «И Буже рассказывал с таким милым азартом, что через несколько минут я совсем отдался знакомой власти приятных выдумок, не вспоминая трагической действительности» (С. 171). Эта случайно выбранная фраза не несет в себе никаких сколько-нибудь отчетливо ощутимых примет чужого стиля или чужого слова, как, скажем, это происходит уже в «Приключениях Эме Лебефа» М. Кузмина (на прозу которого, по мнению многих исследователей, Ауслендер ориентировался), где господствует ориентация на «чужой стиль», несколько архаизированный и пронизанный знанием мельчайших деталей эпохи. Нет у Ауслендера и того, что В. Я. Брюсов определил как существеннейшую особенность повествовательной манеры автора «Приключений Эме Лебефа»: «Он строго выдержал стиль того времени во всех написанных частях повести, позволив себе не написать некоторые ее части, которые непременно стояли бы на своем месте у писателя XVIII века, но которые современный автор без опасения предоставляет воображению читателя»[861]. Фрагментарное повествование без сюжетного завершения[862] у Ауслендера заменено отдельным фрагментом, сжатым, но с отчетливо прописанным сюжетом, следующим за вполне определенной фабулой. Впрочем, стоит, пожалуй, отметить, что прочитываться этот сюжет может разноречиво. Так, З. Г. Минц полагает, что в итоге остаются «только тексты, любовное письмо, спрятанное в шкатулке, и доказанная теорема. Рожденные страшной реальностью и творчеством мужественно-холодного лицемера, они преобразились творчеством в Красоту — единственную истинную ценность, способную сохраниться в истории»[863]. Но нисколько не менее возможно и иное чтение: герой силой вечной Красоты противостоит безумию революции и не дает разрушить свою личность ни ежеминутному ужасу грозящей смерти, ни злобе и мести.
Еще в большей степени своеобразие стилевой манеры Ауслендера ощущается в единственном из его законченных романов (второй, «Видения жизни», печатавшийся в омской газете «Сибирская речь» в 1919 году, остался незавершенным или, по крайней мере, незаконченным печатанием) — «Последний спутник». Как и многие другие произведения того времени, роман имеет несомненную автобиографическую подоплеку, однако она несравненно сложнее, чем кажется (чему мы рассчитываем посвятить другую статью). И в то же время он интересен как явление стиля.