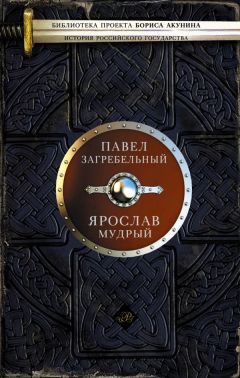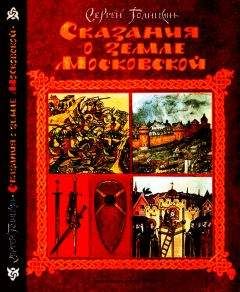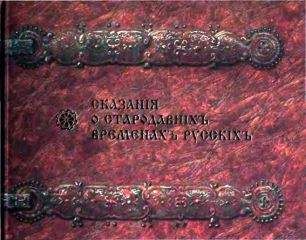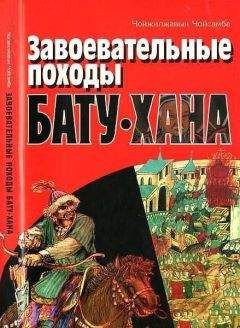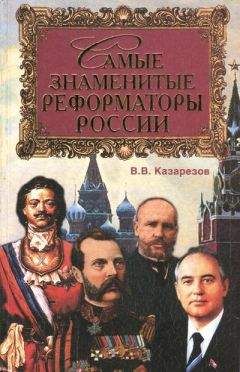Джеффри Хоскинг - История Советского Союза. 1917-1991
Короче говоря, новая частная экономика в сочетании со старой государственной, окончательно впавшей в маразм, способствовала ужесточению дефицита, из чего извлекала немалую выгоду. По мере того, как из продажи исчезало все больше товаров, люди начали создавать запасы продуктов, которые выдерживали длительное хранение — так создавался порочный круг. К 1990 г. в некоторых городах были введены карточки на ряд товаров первой необходимости — на колбасные изделия, сыр, мыло, — что не применялось после первых послевоенных лет[32].
Продолжительный и постоянно углублявшийся экономический кризис делал недействительными все попытки Горбачева выправить положение. Это укрепило людей во мнении, что он лишь один из многочисленных вождей, обещающих с три короба, а реально делающих даже меньше, чем ничего, поскольку им не хватало то ли способностей, то ли желания подняться над узкими интересами своей группы и провести подлинные и необратимые реформы. Кажется, что именно это и было причиной первого с хрущевских времен всплеска рабочего недовольства, случившегося на угольных шахтах Кузбасса в июле 1989 г. Оттуда волнения распространились на Донбасс и в другие места. Трудовой конфликт принял обычную для СССР форму, когда рабочие требовали не только повышения заработной платы, улучшения условий труда и отдыха, жилья, но и социального обеспечения, медицинского обслуживания и продовольственного снабжения. Общей чертой требований рабочих было возмущение, которое вызывали привилегии аппаратчиков и полное неверие их обещаниям. Рабочие проигнорировали официальные профсоюзы и самостоятельно создали стачечные комитеты, которые во время забастовки патрулировали улицы, поддерживали порядок и запретили употребление алкоголя. К тому же на многих шахтах было выдвинуто требование допустить рабочих к управлению предприятиями и дать им возможность принимать решения об использовании прибылей.
Горбачев поддерживал большинство требований рабочих и даже пытался добиться их выполнения. В то же время он понимал, что паралич отрасли, занятой добычей важнейшего энергоносителя, нанесет ущерб всей экономике в целом и, следовательно, программе реформ. Поэтому он несколько раз выступал с телевизионными обращениями к рабочим, уговаривая их прекратить забастовку. Возможно, шахтеры тоже понимали, что ослабление позиций Горбачева сделает тщетными любые надежды на улучшение положения, и неохотно вернулись на рабочие места.
Впоследствии рабочее движение время от времени продолжало оказывать давление на Горбачева. Поскольку правительство не могло выполнить свои обещания рабочим и удовлетворить их экономические требования, к последним вскоре добавились и политические. Весной 1991 г. прокатилась волна забастовок — их участники требовали отставки Горбачева, запрета парторганизаций на предприятиях и конфискации партийной собственности с последующим распределением ее между жителями СССР. Но все же, несмотря на свою решимость и широкую общественную поддержку, рабочим не хватало единой стратегии борьбы, а также единства действий с политиками демократического направления. Отчетливо проявилась такая тенденция: забастовки начинались в каком-либо одном городе или на предприятиях одной отрасли, но рабочие других предприятий в других городах к ним не присоединялись. Они прекрасно проявляли себя в импровизации и самоорганизации на местах, но с куда большим трудом создавали организации, выходящие за пределы данного региона. Так же нелегко налаживали они и прочные связи с демократическими политическими движениями.
Все двусмысленности горбачевской политической системы полностью проявились на заседаниях Съезда народных депутатов в мае и июне 1989 г. Ни процедура созыва Съезда, ни даже сами его функции не были как следует определены, что и позволило Горбачеву в который уж раз выступить в роли высшего арбитра. Это явилось виртуозным представлением новой “президентской демократии”. Но это же позволило Андрею Сахарову предложить Съезду самому создавать и принимать законы, вместо того чтобы делегировать это право случайно отобранной в Верховный Совет пятой части своих делегатов.
Выборы показали, что общественное мнение настроено враждебно по отношению к номенклатуре и только и ждет, чтобы кто-нибудь направил его в нужное русло. Большим моральным авторитетом пользовались те депутаты, кто находился в оппозиции самому Съезду. Но большинство Съезда состояло из бывших аппаратчиков — и именно им принадлежало решающее слово в том, что было основной задачей Съезда, — выборы главы государства и Верховного Совета.
Но с точки зрения тех, кто разделяет мнение Джона Стюарта Милля относительно того, что основной задачей представительного собрания является политическое просвещение и стимулирование политических дискуссий, Съезд, несомненно, был триумфом оппозиции. Все его заседания с начала и до конца транслировались телевидением: многие тогда забросили работу и не отрываясь следили за развитием событий. Люди увидели сжатую панораму всех сторон жизни советского общества — даже новая пресса не была столь убедительна. Они увидели, как генералы давали показания о тех методах, при помощи которых они контролируют людские толпы; министров, с пристрастием допрашиваемых относительно их соответствия должности; даже Горбачева критиковали за то, что он постоянно перебивал ораторов.
И сам Съезд, и предшествовавшие ему выборы показали советскому народу, что он может влиять на политическую жизнь и тот более высокий уровень информации, который это позволял. Аппарат сохранил контроль над всеми уровнями власти, но столкнулся с оппозицией, которая как раз находилась в стадии формирования — в виде Межрегиональной депутатской группы. Потенциальным лидером этой оппозиции был Борис Ельцин, опальный аппаратчик, но он уже начал восхождение к своему новому качеству. Он снова стал учиться политике: сначала у “неформалов”, которые организовали его предвыборную кампанию; позже, уже на Съезде, у ведущих интеллектуалов-нонконформистов — Андрея Сахарова, Юрия Афанасьева, Гавриила Попова и Анатолия Собчака. Из недовольного коммуниста он превратился в демократического политика или — по меньшей мере, — в деятеля, способного предложить и отстаивать политическую линию, альтернативную горбачевской.
Но все же Съезд народных депутатов СССР стал препятствием на пути Ельцина к власти. В нем по-прежнему доминировали представители номенклатуры, избранные благодаря вполне традиционным методам политического манипулирования, — те, кого Афанасьев назвал “агрессивно-послушным большинством”. К тому же теперь все политические проблемы, начали принимать отчетливую этническую окраску. Поэтому любое оппозиционное движение, претендовавшее на то, чтобы представлять весь Советский Союз, рисковало оказаться расколотым. По мере того как центры реальной власти все больше перемещались в республики, Ельцин менял приоритеты и весной 1990 г. выставил свою кандидатуру на выборах Съезда Народных депутатов РСФСР.
Он понимал, что “суверенитет”, который был неприемлем для Горбачева, когда провозглашался Эстонией или Молдавией, заставит его полностью переменить политику, если о нем заявит Россия.
И снова на помощь ему пришли неформалы. Большинство либеральных и социалистических групп некоммунистического толка соединили свои усилия и смогли преодолеть разделявшие их разногласия. Они создали предвыборный альянс, получивший название “Демократическая Россия”. Ее программа взывала к памяти Сахарова, умершего в декабре 1989 г., и содержала заявление, что Съезд Народных депутатов России должен сделать то, что до сих пор не выполнено общесоюзным Съездом, и принять на себя всю полноту власти в России. В крупнейших городах “Демократическая Россия” добилась успеха: Ельцин в Свердловске получил 80% голосов, а в Москве и Ленинграде были избраны радикальные городские администрации. В малых городах и деревнях, тем не менее, избирались нередко прежние номенклатурные кандидаты.
Во время предвыборной кампании произошло событие чрезвычайной важности: КПСС наконец-то отказалась от своей монополии на власть. Это свидетельствовало о том, что она сама начала сомневаться в собственных способностях осуществлять исполнительную власть и в возможности сохранить целостность Советского Союза. Горбачев расширил свои президентские полномочия, которые заменили бы власть партии, но было совершенно ясно: реальная власть переходит в союзные республики. Это означало, что в течение 1990 г. республиканские верховные советы стали ареной событий совершенно нового рода — борьбы между ставленниками номенклатуры и радикалами (последние по-прежнему находились в меньшинстве повсюду, кроме Армении, Грузии, Молдавии и республик Прибалтики). Разворачивались эти события вокруг понятия о суверенитете, смутного и изменчивого. Для радикалов оно означало воплощение их мечты о демократии и национальном самоопределении. Для аппаратчиков это была просто власть, в том числе и власть отвергать навязываемые Москвой крайне для них неприятные перестроечные новшества.