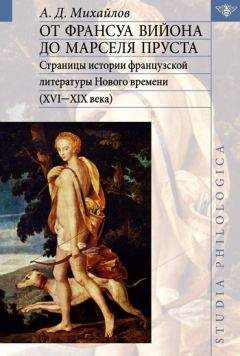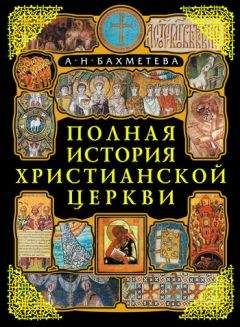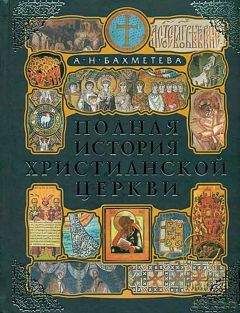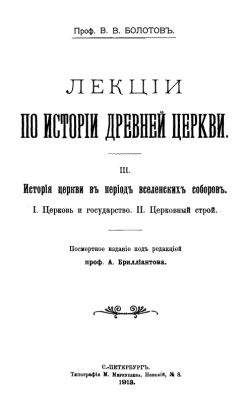Андрей Михайлов - От Франсуа Вийона до Марселя Пруста. Страницы истории французской литературы Нового времени (XVI-XIX века). Том II
В 1903 году Ростан был выбран во Французскую Академию. Светская жизнь, а затем тяжелый недуг, слишком рано сведший его в могилу (поэт скончался 2 декабря 1918 года), отрывали его от творческого труда. Следующую свою пьесу он завершил лишь в 1910 году. Это был «Шантеклер», поставленный в театре Порт-Сен-Мартен в феврале того же года.
В этом произведении поэт ставил перед собой сложную задачу. По сути дела, это аллегория о правде в искусстве, о его назначении. Действие пьесы развертывается на птичьей ферме, а на сцене появляются ее пернатые обитатели. Но иносказания поэта легко расшифровываются. Под видом птиц и зверей Ростан выводит представителей различных слоев современного ему общества, в том числе литераторов-декадентов, и противопоставляет им всем красавца петуха Шантеклера, «певца зари», поборника простоты и правды в поэзии. Шантеклер – это еще один вариант Сирано. Он идеалист, верящий в добро и справедливость, стремящийся повсеместно утверждать ее и оберегать. Далеко не случайно он влюблен в окружающую природу, подлинный источник его вдохновения:
А я! Давно уж я способен в восхищенье
Застыть при виде трав иль нежного цветка, —
признается он.
Глубоко символично, что герой пьесы может петь лишь после того, как прикоснется к земле. Эта достаточно прозрачная аллегория отражает и собственные творческие позиции Ростана, неизменно подчеркивавшего живительность обращения к национальным поэтическим традициям. Совсем не случайно Шантеклер в своей трогательной наивности убежден в общественной пользе своего пения: он искренне верит, что им он заставляет вставать Солнце. Для себя же он не ищет ни наград, ни славы:
Да, знай, что я пою не для забавы эха,
От песни я не жду ни славы, ни успеха.
Мне нужно, чтобы свет торжествовал над тьмой,
И в пенье – вера вся, и труд, и подвиг мой.
Иногда полагают, что в пьесе Ростана слишком много символики и аллегории. А как же иначе! Таков жанр этого произведения, в котором поэт выступает во всеоружии своего таланта. Да, в «Шантеклере» много аллегорий, но они ясны, необыкновенно точны, иногда подчеркнуто ироничны, иногда же глубоко лиричны. И действие в этой аллегорической пьесе построено мастерски, в ней немало эффектных сюжетных ходов, драматичных сцен, и финал не может не держать в напряжении читателя или зрителя до самой последней реплики пса Пату.
Обращение к миру природы бесспорно обогатило, расцветило новыми неожиданными красками языковую палитру Ростана. Но не сделало язык пьесы манерным. Словесное разнообразие и богатство не противоречило основной установке автора – быть ясным.
«Шантеклер» Ростана весь пронизан радостным восприятием жизни (хотя в пьесе и есть печальные нотки), одухотворенным, восторженным любованием щедрой природой южной Франции, наполнен подлинным культом солнца, без которого погибло бы все живое. Т. Л. Щепкина-Куперник, которая с замечательным талантом перевела на русский язык почти все произведения Ростана, имела основание так сказать об их авторе: «Он всем наслаждался конкретно и все стороны своей жизни поворачивал к солнцу»[580].
ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕАТР МОРИСА МЕТЕРЛИНКА
Стоя невдалеке от
смерти, мы так нуждаемся в
красоте!
«Пелеас и Мелисанда»Когда любишь, надо
жить, и чем сильнее любишь,
тем необходимее жить.
«Аглавена и Селизетта»Каждая историко-культурная эпоха вырабатывает свой, только ей свойственный язык, в терминах которого описывается мир и человек в их взаимной соотнесенности и обусловленности. Этот язык обнаруживает себя на разных уровнях и отражается в целом комплексе разнородных явлений. При этом в каждой из историко-культурных эпох роль ее отдельных компонентов, их соразмерность бывает разной. Так, скажем, место литературы определяется набором внутри– и внелитературных факторов и может быть доминирующим или, напротив, подчиненным. Подчиненность не означает, однако, ущербности, недоразвитости, слабости. Даже напротив: литература может быть очень богатой и многообразной, очень «сильной» и тем не менее – подчиненной основной культурной доминанте своего времени. Таким основным эстетическим пафосом эпохи диктуются и жанровые предпочтения, то есть преимущественная разработка тех или иных литературных форм, и тематика произведений, и их образный строй.
Не стала здесь исключением и эпоха рубежа XIX и XX столетий. В ее осмыслении и оценке давно пора отказаться от мысли о кризисе культуры, породившем очень своеобразные художественные явления, эстетическая ценность которых открывается, быть может, в полной мере лишь в наши дни. Это был кризис лишь в том смысле, что неумолимо уходили в прошлое старые идеалы, старые формы, и это ощущение перелома, смены вех и ориентиров не могло не выливаться подчас в трагические образы, не рождать очень глубокого, а потому почти неизбежно пессимистического взгляда на человека и окружающий его мир. Это был, однако, если можно так выразиться, продуктивный пессимизм, стимулирующий мысль, открывающий еще неведомые черты в действительности и способствующий, даже требующий создания совсем нового поэтического языка. И вот теперь становится ясным, что этот новый язык означил выход культуры к новым горизонтам, а то, что нам казалось в этом языке «красивостью» не очень высокого вкуса, оказалось на деле очень красивым, ибо эстетические критерии были в то время однозначно выведены на первое место. Этого не могли смутно не почувствовать даже убежденные критики такого искусства. Так, давно ставшая хрестоматийной статья М. Горького «Поль Верлен и декаденты» (1896) пестрит противоречиями и оговорками: критикуя Верлена и его последователей, пролетарский писатель невольно подпадал под обаяние его творчества и на каждом шагу отдавал должное его таланту.
Эпоха перелома, рубежа XIX и XX веков ярко и неповторимо выявила себя, пожалуй, во всех видах творческой деятельности. В области изобразительного искусства, искусства прикладного, архитектуры она определяется обычно как эпоха модерна[581], в области литературы (а также отчасти музыки и театра) – как эпоха символизма. Вряд ли стоит подробно останавливаться на истории символизма в западноевропейской литературе; отметим лишь его некоторые характерные черты, и при этом будем иметь в виду, что теоретические постулаты символизма нередко противоречили его живой практике, что его мастера далеко не вполне выполняли предначертания теоретиков, что вообще искусство шире, ярче и долговечней лежащих в его основе теоретических построений.
Символисты исходили, прежде всего, из понимания символа как адекватной замены вещи, ее более высокого и совершенного существования. Символ скрывал вещь, но и помогал ее пониманию, делал его более широким и богатым, причем это понимание рассматривалось как процесс более важный, чем даже обладание самой вещью. Так заявляло о себе главенство духа над бытом, над повседневной действительностью, над натуралистическим, то есть неизбежно примитивным и плоским ее истолкованием. Поэтому, по определению одного из теоретиков символизма, Жана Мореаса (1856 – 1910), символизм был «воплощением Идеи в ощутимой форме, которая, однако, не является самоцелью, но, служа выражению Идеи, сохраняет подчиненное положение»[582]. Развернутую и емкую характеристику символизма мы находим у Реми де Гурмона (1858 – 1915), в его знаменитой «Книге масок». «Что такое символизм?» – спрашивал Реми де Гурмон. И отвечал: «Если держаться прямого, грамматического значения слова, почти ничего. Если же поставить вопрос шире, то слово это может наметить целый ряд идей: индивидуализм в литературе, свободу творчества, отречение от заученных формулировок, стремление ко всему новому, необычному, даже странному. Оно означает также идеализм, пренебрежение к фактам социального порядка, антинатурализм, тенденцию, направленную к тому, что есть в жизни характерного, тенденцию передавать только те черты, которые отличают одного человека от другого, желание облекать плотью лишь то, что подсказывается конечными выводами, то, что существенно»[583]. Это поразительно полная характеристика, несмотря на свою краткость, она высвечивает главное, не навязывая искусству категорических императивов.
Добавим лишь, что язык символов требовал опоры и на предшествующую традицию; так в искусстве символизма появилось необычайно широко используемое иносказание – перенесение действия, его оформление в духе некоего условного и совершенно внеисторичного Средневековья. Так возникли все эти замки, королевны, рыцари, которые кочуют из книги в книгу, из пьесы в пьесу и из картины в картину (заметим в скобках, что в средневековом стиле оформлялся и повседневный быт той эпохи, где соседствовали паровое отопление с потолочными балками, лифты с резными каминами и дверями, телефонные аппараты со стрельчатыми окнами в частых свинцовых переплетах; и жить в этой несколько странной обстановке было необычайно удобно и уютно). На этом условном средневековом фоне, не имеющем точных хронологических привязок, было легко вводить фантастические мотивы, развертывать феерические сцены. Последнее было особенно важно по двум причинам. Непредсказуемость и прихотливая свобода феерии позволяли изображать сложность и неординарность человеческих отношений, вообще положения человека в мире. Кроме того, именно язык феерии как нельзя лучше помогал раскрытию сокровенной идеи вещей и явлений, которая представляла собой некую тайну, требующую разгадки. Средневековый маскарад противопоставлял изображаемое некрасивой повседневности, лишенной, в концепции символизма, какой бы то ни было красоты, одухотворенности, а следовательно и справедливости, неуничтожаемого доброго начала. В то же время медиевистические травестии символизма обнажали предмет – человека, мир, их взаимосвязи – все-таки не до рационалистического конца, неизменно оставляя хотя бы небольшой покров тайны, которая никогда не может быть разгадана однозначно; напротив, она предполагает множественность истолкований, тем самым перебрасывая мостик от фантазии изображения к фантазии восприятия. Отсюда – столь важная для символизма свобода интуитивного познания, а значит и свобода творчества. Отсюда же – многозначность образа, темы, сюжета, то есть свобода в выборе путей и способов описания, истолкования, распознавания действительности. Отсюда, наконец, – тот дуализм, та постоянная игра в передаче абстрактного через конкретное и – чаще и настойчивей – конкретного через абстрактное.