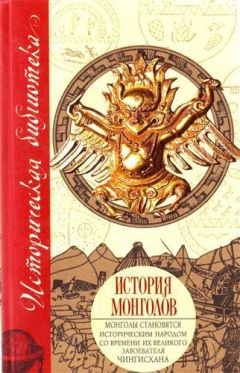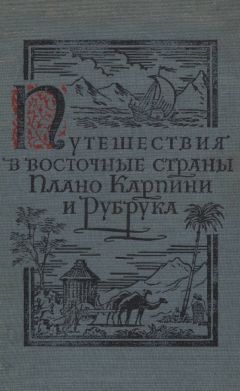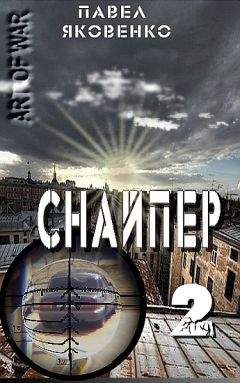Пётр Кропоткин - Анархия
Мы видели это в предыдущей главе, представляющей собой сжатый очерк громаднейшей массы фактов; их можно было бы привести без числа в подтверждение сказанного.
Понятно, что такое объяснение приводит в озлобление тех, кто еще пропитан религиозными мыслями. Оно не оставляет места сверхъестественным силам: оно исключает мысль о бессмертной душе. Действительно, если человек всегда повинуется потребностям своей природы, если он, так сказать, не что иное, как «сознательный автомат», где же место для бессмертной души? Что сталось с бессмертием — этим последним убежищем тех, кто много страдал и мало знал радостей и кто верит поэтому, что найдет вознаграждение в другом, загробном мире?
Мы понимаем, что люди, выросшие в предрассудках, не доверяющие науке она так часто их обманывала — и гораздо более управляемые чувством, чем разумом, отвергают такое объяснение. Оно отнимает у них их последнюю надежду.
Но что сказать о революционерах, которые начиная с XVIII века и вплоть до наших дней, как только познакомятся впервые с естественным объяснением человеческих поступков (с теорией эгоизма, если хотите), сейчас же спешат вывести из нее то же заключение, что и молодой нигилист, о котором мы говорили вначале, т.е. говорят: «Долой всякую нравственность!»
Что сказать о тех, которые, убедившись, что как бы ни поступал человек, он поступает так, а не иначе, чтобы ответить потребности своей природы, торопятся вывести из этого, что все поступки безразличны; что нет ни добра, ни зла; что спасти тонущего человека или утопить человека, чтобы завладеть его часами, — два равнозначных поступка; что мученик, умирающий на эшафоте, после того как работал в своей жизни над освобождением человечества, и мелкий плут стоят друг друга — потому что оба искали удовлетворения потребности, искали счастья!
Если бы те же люди прибавляли, что нет на свете ни приятных, ни неприятных запахов; что аромат розы и вонь ассы фетиды безразличны, потому что и то и другое — не что иное, как колебания частичек вещества; что нет ни хорошего, ни дурного вкуса, так как горечь хинина и сладость гуавы опять-таки не что иное, как колебания частичек; что на свете нет ни физической красоты, ни безобразия, ни ума, ни глупости, потому что красота и безобразие, ум и глупость — тоже результаты колебаний, химических и физических, происходящих в клеточках организма. Если бы они прибавили все это, то можно было бы сказать, что они городят вздор, но по крайней мере рассуждают с формальной логикой сумасшедшего.
Но нет — этого они не утверждают. Они признают для себя и других различие хорошего и дурного вкуса, приятного и неприятного запаха, они знают различие ума и глупости, красоты и безобразия… Что же следует из этого заключить?
Наш ответ очень прост. Дело в том, что Мандевиль, писавший в 1723 году свою «Басню о пчелах», русский нигилист 60-х годов и современный французский анархист рассуждают так потому, что, не отдавая себе в этом отчета, они остаются погрязшими в предрассудках своего христианского воспитания. Какими бы они себя ни считали атеистами, материалистами или анархистами, они продолжают рассуждать по вопросу о нравственности, точь-в-точь как рассуждали отцы христианской церкви или основатели буддизма.
Эти добродушные старцы говорили: «Поступок тогда будет хорош, когда он представляет собою победу души над плотью; он будет дурен, если плоть победила душу, и он будет безразличен, если ни то, ни другое. Только по этому признаку можем мы судить, хорош поступок или дурен». И наши молодые товарищи вслед за христианскими и буддистскими отцами повторяют: «Только по этому признаку можем мы судить, хорош поступок или дурен. Раз его нет — нет ни добра, ни зла».
Отцы Церкви говорили: «Взгляните на животных: у них нет бессмертной души. Их поступки просто отвечают потребностям их природы; а потому у животных не может быть ни дурных, ни хороших поступков. Все их поступки безразличны. Вот почему для животных не будет ни ада, ни рая: ни наказания, ни вознаграждения».
И наши молодые товарищи повторяют вслед за святым Августином и святым Шакьямуни: «Человек — тоже животное; его поступки тоже отвечают только потребностям его природы. Апотомуне может быть ни хороших, ни дурных поступков. Они все безразличны».
Везде, всегда все та же проклятая идея о наказании и вознаграждении, становящаяся поперек разуму. Везде все то же нелепое наследие религиозного обучения, в силу которого выходило, что поступок тогда только хорош, когда он вытекает из внушения свыше, и безразличен, если в нем отсутствует сверхъестественное внушение. Опять, даже у тех, кто больше всего смеется над дьяволом и ангелом, мы находим дьявола на левом плече и ангела на правом.
«Раз вы прогнали дьявола и ангела и уже больше не в силах нам сказать, что хорошо, что дурно, так как другой мерки, чтобы судить поступки, у меня нет».
Старые верования все еще живы по-прежнему в этом рассуждении с их дьяволом и ангелом, несмотря на внешнюю материалистическую окраску. И, что всего хуже, судья со своими раздачами кнута для одних и наград для других тоже благоприсутствует, и даже принципы анархии не в силах искоренить этого понятия о награде и наказании.
Но мы отказались раз и навсегда и от священника, и от судьи. Они нам вовсе не нужны. А потому мы рассуждаем так: «Когда асса фетида издает противный мне запах, когда змея кусает людей, а враль их обманывает, то все трое одинаково следуют природной необходимости. Это верно. Но и я тоже следую такой же природной необходимости, когда ненавижу растение, издающее противный запах, ненавижу змею, убивающую людей своим ядом, и ненавижу тех людей, которые иногда бывают вреднее всякой змеи. И я буду действовать сообразно этому чувству, не обращаясь ни к дьяволу, с которым я, впрочем, незнаком, ни к судье, которого ненавижу еще больше, чем змею. — и все те, кто так же думает, мы тоже повинуемся потребностям нашей природы. И мы увидим, на чьей (стороне) разум, а следовательно, и сила».
Это мы сейчас и разберем, и тогда мы увидим, что если святой Августин не находил другого основания, чтобы различать между добром и злом, кроме внушения свыше, то у животных есть свое основание, несравненно более действительное для такого различения.
Животные вообще, начиная с насекомого и кончая человеком, прекрасно знают, что хорошо и что дурно, не обращаясь за этим ни к Евангелию, ни к философии. И причина, почему они знают, — опять-таки в их природных потребностях: в условиях, необходимых для сохранения расы, которые ведут, в свою очередь, к осуществлению возможно большей суммы счастья для каждой отдельной особи.
IV
Чтобы отличить, что хорошо и что худо, богословы Моисеева закона, буддийские, христианские и мусульманские всегда ссылались на божественное внушение свыше. Они видели, что человек, будь он цивилизованный или дикарь, ученый или безграмотный, развратник или добрый и честный, всегда знает, когда он поступает хорошо и когда поступает дурно, — в особенности когда поступает дурно. Но, не находя объяснения этому всеобщему факту человеческой природы, они приписывали его чувству, сознанию, вселенному в человека свыше.
Вслед за ними философы-метафизики говорили то же о прирожденной совести, о мистическом императиве, что, впрочем, ничего не объясняло и представляло только замену одних слов другими.
Но ни богословы, ни метафизики не сумели указать на тот простой и поразительный факт, что все животные, живущие в обществах, тоже умеют различать между добром и злом точно так же, как человек. И, что всего важнее, их понимание добра и зла совершенно то же, что у человека. У наиболее развитых представителей каждого из классов животных, т.е. у высших насекомых, у высших рыб, птиц и млекопитающих, эти представления даже тождественны.
Некоторые мыслители XVIII века уже отметили мимоходом это совпадение, но с тех пор оно было забыто, и нам выпадает теперь на долю выставить все его глубокое значение.
Гюбер и Форель, неподражаемые исследователи муравьев, доказали целой массой наблюдений и опытов, что, если муравей, хорошо наполнивший свой зобик медом, встречает других муравьев, голодных, эти последние сейчас же просят его поделиться с ними. И среди этих маленьких, умных насекомых считается долгом для сытого муравья отрыгнуть мед и дать возможность голодным товарищам покормиться.
Спросите у муравьев, хорошо ли было бы отказать в таком случае муравьям из своего муравейника? И они ответят вам фактами, смысл которых невозможно не понять, — что отказать было бы очень дурно. С таким эгоистом муравьем другие из его муравейника поступили бы хуже, чем с врагом из другого вида. Если бы такой отказ случился во время сражения между муравьями двух разных видов, его сородичи бросили бы сражение, чтобы напасть на своего эгоиста. Этот факт был доказан опытами, не оставляющими после себя никакого сомнения.