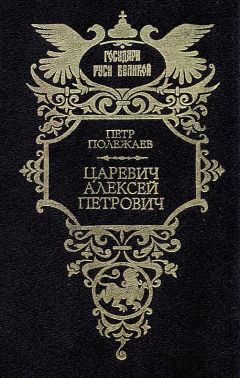Елена Никулина - Повседневная жизнь тайной канцелярии XVIII века
Иногда Анна Иоанновна поручала Ушакову расследовать не только политические, но и откровенно уголовные дела, имевшие, как теперь принято говорить, общественный резонанс в среде придворной знати. Так, в марте 1732 года у только что назначенного майором первого гвардейского Преображенского полка князя Никиты Юрьевича Трубецкого (будущего генерал-прокурора) пропали «алмазные вещи» (запонка, кольцо и, как можно понять, отдельные неоправленные «камни»). Императрица приняла эту историю близко к сердцу и повелела Андрею Ивановичу разыскать пропажу. Ушаков быстро установил, что поручик Бутырского полка Карташов проиграл какие-то драгоценности в карты лекарю цесаревны Елизаветы Арману Лестоку. Поручик был немедленно арестован и сразу же сознался в краже; Ушаков лично отправился к Лестоку и изъял у него четыре «камня» и «перстень золотой с бралиантом». На раскрытие преступления ему понадобились две недели.[689]
… И не «весьма важные»
Однако дела о кражах при дворе либо по обвинениям в шпионаже или заговоре были редкостью, даже несмотря на старания доносителей.
Капрал Измайловского полка Дмитрий Секерин, конвоировавший очередную партию арестантов Тайной канцелярии, усмотрел «бунт» в действиях ямщиков Тосненского яма во главе с их старостой Гаврилой Кондюриным, якобы швырнувшим казенную подорожную в грязь. Обращение к новгородским властям результата не дало, поскольку строптивых ямщиков взяла под защиту Ямская канцелярия – виновные в непочтительном отношении к государственным бумагам даже не были арестованы, а «жили на свободе». Однако на следствии быстро выяснилось, что на станции просто не оказалось затребованных капралом лошадей для перевозки колодников. Разбушевавшийся Секерин «Костюрина бил палкою в беспамятстве», ямщики «с дубьем» заступились за своего старосту, и в потасовке кто-то обронил подорожную. В общем, виновных не нашлось; но Ушаков не упустил случая внушить уважение к своему учреждению – объявил выговор секретарю Ямской конторы Семену Черкасову за попустительство подведомственным ямщикам.
Надо сказать, что вольные ямщики чинопочитанием не отличались и могли послать подальше не только гвардейского сержанта, но и иностранного дипломата – например австрийского гоф-камер-советника фон Гартунга. «Немец» тоже требовал лошадей и грозил пожаловаться государыне, на что грубый ямщик Борис Панкратов ему ответил: «Сколько тебя, столько государыни боюся». Гартунг, на беду ямщика, знал русский язык, и тому на допросе не удалось отговориться: дескать, глупый иноземец человеческим языком не владеет, а потому «и слышать де от него оных слов невозможно».[690]
В 1732 году так же, как в иные времена, органы политического сыска не испытывали недостатка в доносчиках. Пожалуй, одним из самых неприятных представителей этого типа личности оказался дворянин Новгородского архиерейского дома Иван Рябинин. Он и сам не ладил с законом, поскольку был уличен в махинациях с «рекрутскими деньгами», попался на провозе трех ведер «корчемного» вина и угодил под стражу за совершенное его крепостными убийство в драке его двоюродного брата. Находясь в заключении в Новоладожской воеводской канцелярии, Рябинин выдал серию из 16 доносов. Новоладожского «таможенного ларечного» Василия Назанцева он обличил в краже казны; канцеляриста Фотия Крылова – в оскорблении почтенного учреждения. «Я де хочу воеводскую канцелярию блудно делать!» – якобы кричал подгулявший приказный. Новгородских дворян братьев Ушаковых, Нееловых, Луку Сназина и Андрея Тяполкина, жившего с ним в одной усадьбе, Рябинин обвинил в неявке на смотр и учинении «всяких непотребств», о которых собирался поведать отдельно. Помещице Агафье Ушаковой он припомнил ее дерзкую фразу: «Я де сама государыня, и никого де я не опасна». Не забыл он и про крестьян Тимофея Рябинина и Гаврилу Клементьева, будто бы распространявших при нем подрывные рассуждения о престолонаследии: «Ныне де проявился новый царь, а государыне императрице де на царстве не быть». Доносы вызвали затянувшийся розыск, в результате которого «важности к следствию Тайной канцелярии не явилось», а сам доносчик угодил под кнут.[691]
Остальные же доносители такими склочными характерами не обладали, да и настоящих «бунтов» в 1732 году не наблюдалось. Пожалуй, только крестьяне одного из «погостов», принадлежавших цесаревне Елизавете, отказались исполнить распоряжение ее вотчинной канцелярии – заплатить оброчные деньги «за прошлые годы». Смутьяны во главе со старостой Яковом Яковлевым сначала «выслали» из села подьячего с указом, а потом выгнали явившихся сержанта и трех солдат – куда тем было тягаться с 300 рассерженными мужиками. Крестьяне «учинили бунт» да еще похвалялись, что «не покорятся и полку». Преступление было налицо; но тут сказалась слабая сторона организации сыска – Тайная канцелярия для усмирения бунтовщиков сил не имела и могла только требовать от Новгородской губернской канцелярии арестовать старосту и других «заводчиков». Схваченные же случайно три мужика вели себя в традициях крестьянских «бунтов»: отговаривались тем, что ничего не знали, во время событий были «в отлучке» и никаких «противных слов не говаривали».
Обычными поводами для доносов стали «небытие» у проходившей в декабре 1731 года новой присяги людей «разных чинов» и предосудительное поведение забывавших о своих обязанностях святых отцов. К примеру, отставной поручик Федосей Кутузов усмотрел, что соседский дворянский сын Иван Матюшкин не исполнил гражданского долга – и 17-летний недоросль был тут же призван к ответу. На допросе он повинился, оправдываясь «несознанием своим» по причине «меленколичной болезни».[692] Кажется, ему поверили – так же, как исполненному ведомственной гордости прапорщику инженерного корпуса Владимиру фон Тирену. Обвиненный воеводой Колы в нежелании присягать прапорщик заявил, что лишь не признал над собой власти какого-то «штатского» воеводы, и требовал прислать текст присяги «по команде», то есть из Канцелярии главной артиллерии и фортификации.[693]
Пожилому «царедворцу» Василию Мельгунову так легко отделаться не удалось, хотя он представил целый набор оправданий отсутствия на присяге: сначала он был злодейски избит (вместе с «неведомыми воровскими людьми») солдатами местного батальона, затем ему досталось от рукоприкладства полковника Федора Норова; потом он должен был скрываться в доме сестры на Белоозере от угрозы «смертного убивства» со стороны своего дворового Федора Иванова. Однако у Ушакова работали люди опытные, и обилие смягчающих обстоятельств, видимо, вызвало у них подозрения. Выяснилось, что полковник действительно Мельгунова побил, но на Белоозеро тот не ездил и солдатами поколочен не был. За вранье «царедворец» отведал плетей, после чего был приведен к присяге.
Не поверил Ушаков и отставному прапорщику лейб-регимента Аверкию Козловскому, чистосердечно признавшемуся в «небытии у присяги» по болезни. Андрей Иванович приказал «взять» ослушника к розыску, и опять интуиция его не подвела: выяснилось, что «тяжелобольной» Козловский, будучи не в силах явиться для принятия присяги и посетить «свою» Белозерскую воеводскую канцелярию, отправился за 400 верст в Галицкий уезд да еще и объявил о своем проступке «спустя многое время». За это он получил заслуженные батоги, после чего был приведен к присяге.[694]
Ушаков не спускал и обычной российской расхлябанности в столь важных делах. Солдат Новгородского гарнизона Сергей Бурлов собирался подать донос на неприсяжную компанию – новгородского дворянина Фомы Бундова с сыном Трофимом и племянником Иваном Ближенковым; но по дороге доносчик так расслабился, что спьяна донос «разодрал», а потом заехал в дом… обвиняемого им Бундова, чтобы там бумагу поправить и «припечатать»! Как ни уверял солдатик, что подследственные ни о чем не догадались (скорее всего, по причине неграмотности и всё того же пьянства), ему пришлось первому отведать плетей.[695]
Отцы духовные и подавно не являли пастве образцы христианских добродетелей; благонамеренные обыватели подавали доношения на попов, не совершавших вовремя молебнов и не поминавших имени императрицы. Батюшки оправдывались «сущей простотой», извинительным «беспамятным» пьянством и неизвинительным участием в сельских работах. Тюменского протопопа Дмитрия Васильева за то, что забыл – в трезвом виде! – совершить молебен в день коронации императрицы, лишили сана, высекли кнутом и отправили навечно в монастырь.[696]
Помимо «присяжных» дел в Тайную канцелярию попадали доношения по самым разным случаям и из разных слоев общества. Так, почти одновременно поступил донос на генерала Василия Вяземского, отказавшегося выпить за здоровье герцогини Екатерины Иоанновны (дело «не следовалось», не будучи признано важным, да и сестру свою Анна не очень жаловала), и на нищих Федоровской богадельни от их собрата, донельзя оскорбленного произнесенными в перебранке по его адресу словами «чернокнижник» и «еретик». Тихвинский посадский Мартемьян Калашников отчего-то обозвал соседа «царственным вором и хищником»; на следствии же не мог объяснить причину и только повторял, что оговорился – хотел сказать «хищником интереса и вором».[697]