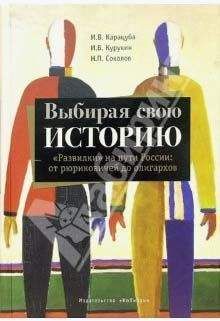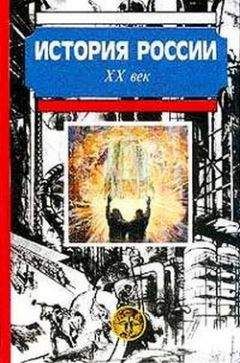Ирина Карацуба - Выбирая свою историю."Развилки" на пути России: от Рюриковичей до олигархов
Но крестьян мало заботили форма и «классовый» состав власти; на уровне волостей и сел не было никакого «двоевластия». Сельские сходы диктовали свою волю приезжим «комиссарам» и часто без особого шума осуществляли земельный передел, не обращая внимания на губернскую и центральную власть: «Наша партия одна — Земля и Воля». «Черный передел» с захватом чужих земель и угодий вызывал войну крестьян против всех: государства, помещиков, хуторян, членов других общин и приезжих из городов, требовавших свою долю. Как отмечали современники, «...в праздник деревня отправлялась в церковь, а после обедни всем миром грабила соседние усадьбы». В сентябре министр продовольствия С.Н. Прокопович заявил: «Переход к принуждению является безусловно необходимым», — и готовил-
ся послать в деревню вооруженные отряды. А оттуда поднималась волна крестьянских выступлений с захватом «частновладельческих» земель: в марте было 260 случаев, в апреле — 880, в мае — 3000.
Осенью Чернов горько раскаивался: «Надо было с самого начала революции в срочном порядке дать новые временные законы, которые бы урегулировали все землепользование... Надо было сделать из земельных комитетов прочные, авторитетные органы государственной власти на местах, способные своевременными мерами — когда нужно, властными и решительными — предотвращать вспьпики неудовлетворенных потребностей масс, идя навстречу тому, что в них есть здорового. Вместо этого мы опаздывали, опаздывали и еще раз опаздывали. Решительно каждая мера, направленная к вмешательству в старые неограниченные прерогативы собственников, натыкалась на ожесточенную оппозицию и вне, и внутри коалиционного правительства».
Путь медленных и частичных решений был бы возможным — при наличии сильной и эффективной «вертикали власти». Но ее-то у правительства и не было! С самого начала Временное правительство отодвинуло от власти Государственную думу, что было ошибкой. «Царская» Дума была избрана явно не демократически, но она была легитимным народным представительством, а главное — обладала опытом гласного обсуждения и принятия законов и контроля за финансами государства. В марте были уволены все губернаторы, хотя среди них были толковые администраторы; следом за ними упразднены земские начальники и весь полицейский аппарат. Глава государства князь Львов публично заявлял: «Правительство сместило старых губернаторов, а назначать никого не будет. На местах выберут. Такие вопросы должны разрешаться не из центра, а самим населением». На местах же царило не двое-, а многовластие при отсутствии какой-либо правовой системы.
В итоге срочно пришлось назначать временных судей, милицию; посылать из центра комиссаров. Назначенные комиссары часто не обладали ни опытом, ни авторитетом и должны были считаться с Советами, земствами, прочими комитетами общественных организаций и волостным крестьянским самоуправлением, а в случае конфликта их сменяли те, в чьих руках была сила — чаще всего местные гарнизоны. По той же причине спешно созданные продовольственные комитеты не смогли обеспечить проведение хлебной монополии. Разгром полиции и массовая амнистия привели к разгулу преступности, с которой не могла справиться непрофессиональная милиция из добровольцев.
Усталость от войны привела к развалу армии. Этому способствовали и поражения на фронте, и непонимание целей войны (в отличие от Германии, Россия не вела целенаправленной идеологической подготовки к ней своих граждан), и сам затяжной характер окопного противостояния под орудийным и пулеметным огнем. Эта война совсем не была похожа на войны прошлого. Отмена смертной казни и «старорежимной» дисциплины привела офицеров в ужас; но и в офицерском корпусе не было солидарности: многие прапорщики и поручики военного времени стали «социалистами» и выступили в качестве солдатских вожаков. Солдаты не понимали, почему пылкие речи политиков не подкрепляются выдачей им новых сапог и провианта. По их мнению, в окопы должны были теперь отправиться полицейские и прочие тыловики (в том числе и рабочие с их 8-часовым рабочим днем); им же можно отдохнуть и съездить домой, засеять поля — но Гучков и Милюков почему-то не обещали землю.
Попытки восстановить дисциплину (введение вновь смертной казни после провала летнего наступления) вызвали протесты и волну расправ над офицерами и генералами. Если подобные проступки и наказывались, то очень легко. Сама же власть провоцировала нетерпение в ожидании скорого конца войны приказами о частичной демобилизации солдат старших возрастов. В итоге Керенский в сентябре говорил о 2 млн дезертиров; полки сами смещали и назначали командиров, а Советы распускали по домам солдат.
25 марта было образовано «Особое совещание» по подготовке закона о выборах. Свое первое заседание оно провело только через два месяца, списки избирателей были составлены в сентябре, а проект новой конституции — к концу октября 1917 г. Россия представала в нем президентской республикой с двухпалатным парламентом: нижняя палата должна быть выборной, а верхняя — состоять из представителей «важнейших организованных социальных и культурных сил страны» (земств, кооперативов, профсоюзов, торгово-промышлегашх организаций, высших учебных заведений) и служить «коррективом к партийной борьбе».
Правительство тщательно прорабатывало законы, медлило (долго обсуждался вопрос, давать ли избирательные права бывшему царю) и, по видимости, смертельно боялось «отклониться» от «стандартов» демократии. Как будто совершенные демократические процедуры в стране, граждане которой на протяжении многих веков обходились без «прав человека» и обладали минимумом политической грамотности (да еще при массовой неграмотности), но зато с традициями авторитаризма и патриархальности, могли исключить партийные распри, олигархическое правление или новую диктатуру. В этой ситуации победителями выходили безответственные горлопаны, опирающиеся на наиболее нетерпимых. Массы крестьян и рабочих (часто вчерашних крестьян, сохранявших надел в деревне) едва ли разбирались в юридических тонкостях — их волновали результаты, а не устройство новых государственных институтов. Временное правительство, как назло, запаздывало — в то время, когда каждая неделя усиливала кризис в стране.
«Наша дворничиха, тетя Паша, верит, что теперь все дешево будет. Хлеб, ждут, подешевеет до 3 копеек, сахар, масло тоже», — так восприняли революцию рядовые обыватели. Вышло же наоборот: до войны фунт мяса стоил в Москве 19 коп., в марте 1917 г.— 65 коп., к ноябрю — 2 руб. 80 коп. В городах вводились карточки на хлеб, затем на чай, сахар, молоко и другие продукты; устанавливались «твердые цены» на уголь, металл, нефть, кожу, соль, яйца, мясо, махорку. Предприятиям не хватало сырья и топлива. С перерывами работали железные дороги. Промышленники и казенные фабрики требовали дотаций, а рабочие и служащие — повышения зарплаты. Горничные, кухарки, прачки желали получать за сверхурочную работу по двугривенному в час и полагали, что после революции уже хозяева должны представлять им рекомендации: кто как кормит и как обращается с прислугой. Извозчики заламывали цены: «А торговаться будете, совсем не поеду, и никто меня не заставит, фараонов ныне нет». Пролетарии устраивали в переполненных вагонах «трамвайную борьбу с буржуями». Неуютно чувствовали себя в правлении «министров-капиталистов» и сами «буржуи».
«.. .Купил газету сам, потому что все домашние пошли в хвосты за более существенным: кто за молоком, кто за хлебом. Осмотрел свою жалкую обувь, надо бы сменить подошвы, да сказали, что дешевле 12р. сапожник не берет. Новые ботинки можно купить рублей за 70, а если встать в хвост у «Скорохода», то надо посвятить на это 3 дня (дают отпуски на кормежку и за «нуждой», т. в. так сговариваются сами хвостецы, чередуясь между собой). Пошел в контору. На трамвай, конечно, не попал, но мог бы доехать на буфере, если бы там уже не сидело, вернее, не цеплялось человек 20. По тротуарам идти сплошь не приходится. Он занят хвостами: молочными, булочными, табачными, чайными, ситцевыми и обувными. Зашел в парикмахерскую. Делаю это вместо двух раз в неделю только один: за побритье с тачаем» заплатил 1 р. 10 к. ...Работают в конторах, на пристанях, на вокзалах, в амбарах (по транспортной части) лениво, небрежно и часто недобросовестно. Цены на все подымаются, а нравы падают. Дисциплины никакой нет. Мало-мальски ответственное дело (как у меня, например), а дрожишь беспрестанно. Все идет не так, как нужно, нервирует тебя целый день всякое зрелище, всякий разговор, каждая бумажка, а в особенности, заглядывание в неясности любого завтрашнего дня. И придя домой и усевшись за обеденный стол, узнавал, что стоит то, другое. Фунт черного хлеба 12 к., булка из какой-то серой муки 17 к., курица 5 р. 50 к. (старая, жесткая и даже не курица, а петух), стакан молока (может быть, разбавленного водой) — 20 к., огурец 5 к. штука, и это все приобреталось не где-нибудь поблизости от квартиры, а в Охотном ряду, так сказать, из первых рук, то есть с соблюдением всевозможных выгод. После обеда пошли с горя, что ли, в электрический театр. Конечно, набит битком, и надо было заплатить за вход по 1 р. 50 к. с человека, а, бывало, за эту же цену сидели в Малом театре, смотрели Ермолову, Садовского, Лешковскую. Вот какая жизнь в Москве среднего буржуа на рубеже четвертого года войны и сто сорок пятого дня революции!» (Окунев Н.П. Дневник москвича (1917—1924). Париж, 1990. С. 60-61).