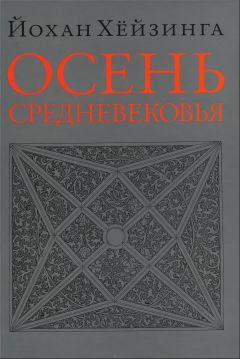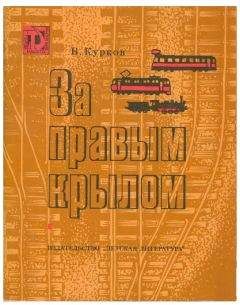Йохан Хейзинга - Осень средневековья
Этой крайней напыщенности сопутствует глубокое авторское уничижение, относительно которого наши поэты остаются верны предписаниям Средневековья. И не только они: все их современники чтят эту форму. Ла Марш надеется, что его Memoires можно будет употребить в некоем венке как самые крохотные цветочки; он сравнивает свой труд с тем, как олень пережевывает свою жвачку. Молине просит всех "orateurs" вырезать из его писаний все, что им покажется лишним. Коммин выражает надежду, что архиепископ Вьеннский, для которого он создает свою хронику, быть может, сумеет воспользоваться ею для одного из своих латинских трактатов[27].
В поэтической переписке Роберте, Шателлена и Монферрана мы видим позолоту нового классицизма, но всего-навсего наложенную на чисто средневековое изображение. А ведь этот Роберте, заметим кстати, побывал "en Ytalie, sur qui les respections du ciel influent aorne parler, et vers qui tyrent toutes douceurs elementaires pour la fondre harmonie"[28] ["в Италии, на которую благосклонность Небес изливает сей украшенный слог и куда устремляется вся нежность стихий, с тем чтобы сплавиться там в единой гармонии"]. Но от гармонии кватроченто он принес домой явно немного. Великолепие Италии означало для всех этих авторов исключительно "aorne parler" ["украшенный слог"], поверхностное культивирование искусного стиля.
Единственное, что, пожалуй, заставляет нас на миг усомниться, верно ли наше впечатление от всей этой манерной подделки под древность, — это налет иронии, порой несомненный, который мы замечаем, в этих напыщенных сердечных излияниях. "Ваш Роберте, — говорят Dames de Rhetorique Монферрану, — il est exemple de Tullian art, et forme de subtilite Terencienne... qui succie a de nos seins notre plus interoire substance par faveur; qui, outre la grace donnee en propre terroir, se est alle rendre en pays gourmant pour refection nouvelle, la ou enfans parlent en aubes a leurs meres, frians d'escole en doctrine sur permission de eage"[29] ["тот, кто являет пример Туллиева искусства, форму Теренциевой утонченности... кто из наших грудей по милости нашей всосал нашу глубинную сущность; кто, сверх той милости, коей был одарен на своей собственной почве, решил, дабы подкрепить свои силы, отправиться в эту страну гурманов, туда, где дети обращаются к своим матерям с альбами[9] , жаждая школы и учености сверх положенной им по возрасту"]. Шателлен прекращает переписку, она делается ему не под силу: врата слишком долго стояли открытыми перед Dame Vanite [Госпожою Суетностью]; теперь он собирается запереть их на засов. "Robertet m'a surfondu de sa nuee, et dont les perles, qui en celle se congreent comme gresil, me font resplendir mes vestements; mais qu'en est mieux au corps obscur dessoubs, lorsque ma robe decoit les voyans?" ["Роберте оросил меня из своего облака, и перлы, собравшиеся, словно изморозь, заставили искриться мои одежды; но что из всего этого моему темному телу под ними, когда платье мое обманывает тех, кто меня видит?"] Если Роберте будет продолжать в том же духе, Шателлен швырнет его письма в огонь не читая. Если же он захочет изъясняться обычным языком, как это и принято между друзьями, тогда Жорж не лишит его своей благосклонности.
Тот факт, что под классическим одеянием все еще ютится средневековый дух, выступает менее явственно, когда гуманисты пользуются только латынью. В этом случае недостаточное понимание истинного духа античности не выдает себя в неуклюжих переработках; литератор может тогда просто-напросто подражать — и подражать, чуть ли не вводя в заблуждение. Гуманист Робер Гаген (1433— 1501) воспринимается нами в речах и письмах почти в той же степени носителем нового духа, как и Эразм, который был обязан ему истоками своей славы, поскольку Гаген в конце своего Компендиума французской истории, первого научного исторического труда во Франции (1495), опубликовал письмо Эразма, тем самым впервые увидевшего себя напечатанным[30]. Хотя Гаген так же плохо знал греческий, как и Петрарка[31], в меньшей степени гуманистом из-за этого он не делается. Но одновременно мы видим, что в нем все еще продолжает жить также дух прошлого. Он все еще посвящает свое латинское красноречие стародавним средневековым темам, как, скажем, диатрибе против брака[32] или же порицанию придворной жизни, — для этого он выполняет обратный перевод на латынь сочинения Алена Шартье Curial. Или же, на сей раз во французских стихах, он обсуждает важность для общества различных сословий, прибегая к широко используемой форме спора: Le Debat du Laboureur, du Prestre et du Gendarme [Прение Пахаря, Священника и Воина]. И в своих французских стихотворениях именно Гаген, в совершенстве владевший латинским стилем, не впадает вовсе в риторические красоты: никаких латинизированных форм, никаких преувеличений, никакой мифологии; как французский поэт, он относится к авторам, которые и в средневековых формах сохраняют естественность и тем самым удобочитаемость. Гуманистические же нормы пока что для него не многим более чем одежда, которую он на себя набрасывает; она ему впору, но без этой мантии он чувствует себя гораздо свободнее. Для французского духа XV столетия Ренессанс в лучшем случае представляет собою довольно свободную внешнюю оболочку.
Многие склонны считать самым убедительным критерием наступления Ренессанса появление выражений, которые звучат как языческие. Однако любой знаток средневековой литературы знает, что этот литературный паганизм вовсе не ограничивается рамками Ренессанса. Когда гуманисты называют Бога "princeps superum" ["владыкою вышних"] и Деву Марию "genitrix tonantis" ["родительницею Громовержца"], они не совершают ничего неслыханного. Чисто внешнее транспонирование персонажей христианского культа в наименования, взятые из языческой мифологии, очень старо и либо означает весьма немного, либо не означает вовсе ничего с точки зрения содержания религиозного чувства. Уже в XII в. Архипиита безбоязненно пишет в своей исповеди:
Vita vetus displicet, mores placent novi;
Homo videt faciem, sed cor patet lovi.
Жизни новой жаждущий — с ветхою простится;
Сердце лишь Юпитер зрит, мы же видим лица.
Когда нам встречается у Дешана "Jupiter venu de Paradis"[33] ["Юпитер, что пришел из Рая"], слова эти ни в коей мере не свидетельствуют о неблагочестии, так же как и слова Вийона в трогательной балладе, сочиненной им для своей матери в качестве молитвы Царице Небесной, называемой им "haulte Deesse"[34] ["горней Богиней"].
Некий языческий оттенок звучал также в пастушеской поэзии; боги появлялись там запросто. В Le Pastoralet монастырь целестинцев в Париже — это "temple au hault bois pour les dieux prier"[35] ["храм в глуши лесной для молитв богам"]. Это невинное язычество никого не могло озадачить. В довершение поэт объявляет: "Se pour estrangier ma Muse je parle des dieux des paiens, sy sont les pastours crestiens et moy"[36] ["Ежели для своеобразия моей Музы я и говорю о богах язычников, то пастыри мои суть христиане, и сам я тоже"]. Также и Молине, которому являются в видении Марс и Минерва, перекладывает ответственность на Raison et Entendement [Разум и Рассудок], поведавших ему следующее: "Tu le dois faire non pas pour adjouter foy aux dieux et deesses, mais pour ce que Nostre Seigneur seul inspire les gens ainsi qu'il lui plaist; et souventes fois par divers inspirations"[37 ]["Делать так должно тебе не для умножения веры в богов и богинь, но потому, что один только Господь Наш вдыхает в людей то, что Ему угодно, и часто посредством разнообразных внушений"].
В литературном язычестве вполне развитого Ренессанса многое следует принимать всерьез не в большей мере, чем подобные выражения. Более существенным признаком внедрения нового духа было сознательное признание языческой веры как таковой, и именно языческих жертвоприношений. Однако подобные представления могут проскальзывать и у тех, чье мышление все еще неотделимо от Средневековья, как это имеет место у Шателлена.
Des dieux jadis les nations gentilles
Quirent l'amour par humbles sacrifices,
Lesquels, pose que ne fussent utiles,
Furent nientmoins rendables et fertiles
De maint grant fruit et de haulx benefices,
Monstrans par fait que d'amour les offices
Et d'honneur humble impartis ou qu'ils soient
Pour percer ciel et enfer suffisoient[38].
Любви — языки в давни времена —
Богов искали жертвою смиренно,
Она ж, без пользы хоть принесена,
Давала плод обильно и сполна;
И, блага обретая неизменно,
Они явили всем нам: непременно,
Кто благостным смиреньем обладает,
Тот входит в ад и неба достигает.
Временами звучание Ренессанса раздается в самой гуще средневековой жизни. В 1446 г. на поединке в Аррасе появляется Филипп де Тернан, не имея при себе вопреки обычаю "bannerole de devocion" — ленты с благочестивым изречением или изображением. "Laquelle chose je ne prise point" ["Каковой вещи я не одобряю"], — говорит Ла Марш о таком нечестивце. Однако девиз де Тернана: "Je souhaite que avoir puisse de mes desirs assouvissance et jamais aultre bien n'eusse"[39] ["Хочу, дабы можно было насытить мои желания, и никогда иного блага я не возжажду"] — был еще более нечестивым. Эти слова могли бы стать девизом самого вольнодумного либертина XVI столетия.
Но вовсе не литература классической древности являлась единственным источником этого действительного язычества. Оно могло быть усвоено из сокровища, принадлежащего собственно Средневековью, — из Романа о розе. В эротических формах культуры — вот где таилось истинное язычество. Венера и бог Любви уже не один век располагали там надежным пристанищем, и обретали они там нечто большее, нежели чисто риторическое почитание. Жан де Мен и вправду был великим язычником. И не смешение имен богов древности с именами Иисуса и Марии, но смешение дерзкого восхваления земных наслаждений с христианскими представлениями о блаженстве было начиная с XIII в. подлинной школой язычества для бесчисленных читателей Романа о розе. Невозможно было представить себе большее богохульство, чем стихи, в которых слова книги Бытия: "И раскаялся Господь, что сотворил на земле человека" — вкладываются, с обратным смыслом, в уста Природе, выступающей здесь в качестве демиурга. Природа раскаивается в том, что сотворила человека, ибо люди забросили ее заповедь размножения: