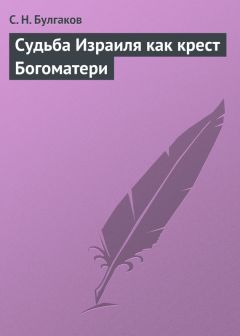Александр Пыжиков - Грани русского раскола
Стержнем новой преобразовательной практики явилось разрушение общинных, т.е. коллективистских форм собственности. Намеченная замена общины массовым частным собственником означала коренной переворот ситуации в деревне: изменение в правовом пользовании, по сути, в каждых 70-ти из 100 десятин российской земли[1528]. Это должно было максимально оживить психологию личного предпринимательства, увлечь трудовой народ в реальное рыночное хозяйство, а не в погромы богатых. Столыпинская политика пыталась устранить то нелепое положение, когда у крупной и средней собственности были владельцы, а у мелкой – нет. Поэтому главные заботы правительства концентрировались на создании мелкого земельного собственника, а не на поддержании крупного землевладения или пестовании узкого слоя кулаков-мироедов, как вслед за В.И. Лениным уверяла советская историография[1529]. Власти устанавливали четкие ограничения по скупке земли, считая, что иначе, при свободном ее обращении, на земельном рынке сложится неуправляемая ситуация, когда наделы станут инструментом для образования крупных и средних владений[1530]. Было предложено ограничить приобретение наделов шестью или двадцати пятью десятинами; сверх указанной нормы покупка земли одним лицом запрещалась. Этот лимит выводился из средней по стране численности семьи – три души мужского пола с удвоением нормы наделения землей, установленной еще в 1861 году[1531].
Усилия по коренному изменению социального облика русского крестьянства преследовали и определенную экономическую задачу, связанную с повышением эффективности частника-единоличника. Авторы реформы в русле передовой западной мысли того времени утверждали: если в промышленности мелкое производство уступало крупному, то в сельской экономике мелкое хозяйство более выгодно. Так обстояло дело везде, кроме России, где, наоборот, крупные поместья на двадцать и более процентов были производительнее крестьянских[1532]. В связи с этим акцент делался на рыночной состоятельности прежде всего мелких владений, без чего «нам не устоять в великом трудовом состязании народов», продолжая «кормиться, оплачивать нашу внутреннюю промышленность, покупать иноземные товары, платить наши долги»[1533].
Но, как известно, укрепление института мелкого земельного владения не привело к триумфу массового собственника на российских просторах. Крестьянство неохотно шло на выделение из общины, с большим предубеждением воспринимая инициативы индивидуального землеустройства. Желающие выйти из общины не получали для этого разрешений от мира, о чем убедительно свидетельствует статистика. К середине 1909 года по заявлениям на выход из общины в Курской губернии вынесено более половины отказов, в Орловской – 68%, в Тульской – 71%, в Рязанской – 84%, в Тамбовской – 85%[1534]. В результате к 1910 году по России в целом лишь 17% домохозяйств смогли воспользоваться укреплением наделов в личную собственность и покинули общину[1535]. Эти цифры показывают, насколько напряженной была ситуация в русской деревне того периода, какое негодование вызывали попытки государства избавиться от власти мира. Как вспоминал, будучи еще Пензенским губернатором, И.Ф. Кошко:
«мир трактовал таких людей как мятежников, не только не подчинявшихся авторитету схода, но и своекорыстно урывавших себе общественную землю вопреки воле мира... Против таких смельчаков стали применяться всякие способы преследования вплоть до поджогов и убийств включительно»[1536].
Неслучайно, по наблюдениям исследователей, борьба с новыми хозяевами по жестокости превосходила погромы дворянских гнезд[1537]. Кстати, в 1904-1905 годах подобный сценарий прогнозировался в ходе дискуссий, развернувшихся в рамках Особого совещания по сельскохозяйственной промышленности, о чем говорилось в предыдущей главе.
В думских слушаниях по указу от 9 ноября 1906 года эти опасения прозвучали более внятно. В.С. Соколов напомнил в своем интересном выступлении, что государство держится не верхами: ведь по законам механики если центр тяжести располагается низко, то тело держится прочно, а с перемещением центра выше – теряет устойчивость. То же самое, пояснил депутат, и с государством: центр должен находиться внизу – в общине, вынесшей на своих плечах все невзгоды и, по сути, создавшей Россию. Теперь же власти озаботились оздоровлением русского общества и, исходя из теоретических соображений и отвлеченных научных цитат, решили вышибить из-под него фундамент чтобы построить его на новых началах – на частной собственности[1538]. Все это, заключал он, приведет к тяжелым последствиям, и:
«через 20-50 лет будут у нас историки; они заглянут в наши стенограммы и они скажут, кто был предусмотрителен, кто это предвидел»[1539].
Но эти яркие предостережения, звучавшие из уст ряда интеллигентов, все же мало проясняли существо вопроса: почему крестьяне упорно держатся за общину, не желая вступать на частнособственническую стезю? Если же вчитаться в выступления самих крестьян, то можно заметить, что, в отличие от целого сонма глашатаев из правящего лагеря, они вовсе не считали общинное владение отсталой формой хозяйствования. Крестьянские ораторы убеждали, что общинный порядок с его уравнительными переделами земли наиболее полно отвечает условиям крестьянского безземелья:
«Если вы уничтожите переделы, то получится, что одни будут с избытком всегда пользоваться достоянием от земли, а другие будут тут же голодать; мы говорим, что общинное владение – это есть страхователь всех родившихся в общине людей»[1540].
Отметим: перед нами крайне важный пункт в рассуждениях крестьян; здесь изложена сердцевина общинной психологии, которую никак не могли постигнуть просвещенные оппоненты. Ведь характеристика общины как «страхователя всех в ней родившихся» означала, что ее механизмы не просто могли предоставить, но в обязательном порядке гарантировали каждому свой кусок хлеба. Причем такой кусок, который будет не меньше, но и не больше, чем у другого. Наличие земли в пользовании домохозяйства прочно увязывалось с количеством душ; рождение или смерть были связаны с дополнительной прирезкой или передачей земли нуждающемуся. Кстати, пресловутая чересполосица, вызывавшая бурное возмущение экспертов по сельскому хозяйству, препятствовала тому, чтобы лучшие участки доставались избранным; потому-то и возникла практика наделения одного человека землей различного качества, иногда даже в разных частях волости. Несомненно, в столь гибкой системе обеспечения жизнедеятельности усматривается воплощение по-настоящему справедливых отношений между общинниками. Можно сказать, что она представляла собой своего рода прообраз того социального устройства, которое возникло в советское время. Успешное функционирование этой системы было необходимо народу, полагавшегося на свои силы и справедливость мира; ни на что другое ему рассчитывать не приходилось. Поэтому нарушение принципа экономического равенства всех членов общины вызывало у крестьян неподдельное раздражение. Так было, например, с выкупными платежами при отделении от мира; в течение многих лет они вносились по круговой поруке, без ведения лицевых счетов, а значит, доказать, кто сколько внес за выкуп, не представлялось возможным. Но по закону, навязанному крестьянам, получалось, «как будто бы лица, желающие выделиться, внесли все выкупные платежи сами; на самом деле половину за них внесла община»[1541]. Таких поворотов крестьянское сознание принять не могло.
Сознание правящего класса работало совсем иначе, его определяла исключительно личная экономическая целесообразность. Сквозь такую призму крестьянские переделы, чересполосица, суды по совести изумляли, казались дикостью, порождением слабоумия. По мнению образованной публики, эта отсталая система подавляет любое проявление инициативы, закабаляет личность; от тяжелых оков, т.е. от общины, следует немедленно избавиться. Что отвечали на подобные заявления крестьяне? Приведем очень интересное рассуждение крестьянского депутата: русский человек как отдельная единица слаб, поддается всяческим влияниям, особенно иностранным; община же является спасением: вне ее русский человек как рыба без воды, а в ней он из слабого делается сильным, из малодушного – храбрым[1542]. Отсюда очевидный вывод:
«Нет, господа, подавления личности я в общине не вижу... я вижу, напротив, в общине укрепление личности»[1543].
Говоря иначе, народная идентификация обосновывалась прежде всего общинными связями, а не индивидуальной практикой, опиравшейся на частную собственность. Причем привлекательность общинных порядков, их справедливость напрямую соотносились с православной верой. Как провозглашал оратор, христианские начала существуют не только для неба: они должны утверждаться и на земле.