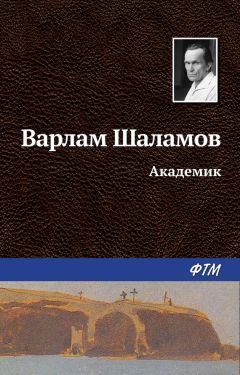Френсис Йейтс - Искусство памяти
Аристотель различает память и реминисценцию, или припоминание. Припоминание есть возвращение знания или ощущения, которое у нас уже было. Это напряженное усилие поиска верного пути среди всего содержимого памяти, выслеживание того, что мы пытаемся припомнить. В этом усилии Аристотель выделяет два связанных между собою начала. Это принцип того, что мы называем ассоциацией, хотя Аристотель не употребляет этого слова, и принцип порядка. Начиная с "чего-либо подобного, или противоположного, или тесно связанного"[52] с искомым, мы выйдем на него. Это определение называли первым определением законов ассоциации через подобие, неподобие и смежность.[53] Требуется также восстановить порядок событий или впечатлений, который приведет нас к тому, что мы отыскиваем, поскольку порядок припоминания следует порядку первоначальных событий, и поскольку упорядоченные вещи легче всего запомнить, как, например, положения математики. Но у нас должна быть отправная точка, чтобы припоминая, было от чего оттолкнуться.
Часто бывает, что человек не может припомнить что-либо сразу, но, поискав, находит желаемое. Это происходит, когда человек поддается множеству порывов, пока наконец не наткнется на тот, который приведет его к искомой цели. Ведь воспоминание в действительности зависит от потенциально существующей порождающей причины… Но он должен придерживаться отправной точки. По этой причине некоторые с целью припоминания используют места (topon). Основание этому в том, что человек быстро переходит от одного шага к другому; например, от молока к белому, от белого к воздуху, от воздуха к сырости; тут же нам вспоминается осень, если предположить, что мы пытались вспомнить это время года.[54]
Здесь ясно видно, что Аристотель обращается к местам искусной памяти, чтобы проиллюстрировать свои замечания о роли ассоциации и порядка в процессе припоминания. Но, как отмечают издатели и комментаторы, смысл всего отрывка проследить очень трудно.[55] Возможно, шаги, которыми мы быстро переходим от молока к осени — если мы пытаемся припомнить это время года — будут зависеть от космической связи элементов и времен года. Или же рукопись повреждена, и этот отрывок, как он есть, вообще не поддается пониманию.
За этим пассажем сразу следует другой, в котором Аристотель говорит о припоминании от начальной точки, стоящей в каком-либо ряду.
Вообще говоря, срединная точка представляется хорошим началом, так как мы вспомним то, что нужно, когда достигнем этой точки, если не раньше, или же не вспомним по достижении какой-либо другой. Например, предположим, что мы мыслим ряд, который можно представить буквами ABCDEFH; если мы не припоминаем, чего хотим на Е, то сделаем это на Н; с первой из них можно двигаться в обоих направлениях, как к D, так и к F. Предположим, мы ищем G или F, тогда мы вспомним нужное по достижении С, если нам нужно G или F. Если же нет, то по достижении А. Это способ всегда будет успешным. Иногда возможно припомнить то, что мы ищем, иногда нет; причина в том, что можно двигаться более, чем в одном направлении. Например, от С мы можем дойти сразу до F или только до D.[56]
Поскольку начальная точка припоминания раньше сравнивалась с местом мнемоники, в связи с этим совершенно запутанным пассажем мы можем припомнить, что одно из преимуществ искусной памяти было таково, что его обладатель мог начать с любого из своих мест и проходить по ним в любом направлении.
Схоласты, к собственному удовлетворению, доказывали, что De memoria et reminiscentia дает философское и психологическое обоснование искусной памяти. Однако весьма сомнительно, это ли имел в виду Аристотель. По-видимому, о мнемонической технике он вспоминает только для того, чтобы проиллюстрировать свои собственные доводы.
* * *
Встречающаяся во всех трех латинских источниках метафора, которая сравнивает внутреннюю запись или расстановку образов памяти по местам с записью на восковых дощечках, вызвана, разумеется, употреблением таких дощечек для письма. Вместе с тем она связывает мнемонику с античной теорией памяти, как это видел Квинтилиан, когда в предисловии к своему трактату отмечал, что не намерен подробно останавливаться на том, как именно действует память, "хотя многие придерживаются того мнения, что определенные впечатления появляются в уме аналогично тому, как печатка оставляет след на воске".[57]
В том отрывке, который мы уже цитировали, Аристотель применяет эту метафору в отношении образов чувственного восприятия, подобных печати, остающейся на воске. Для Аристотеля такие впечатления являются основным источником всякого знания; хотя они очищаются и обобщаются мыслящим интеллектом, без них невозможны были бы ни мысль, ни знание, поскольку всякое знание зависит от чувственных восприятий.
Платон также использует метафору печати в том знаменитом месте в Теэтете, где Сократ предполагает, что в наших душах находится кусок воска — у разных людей он отличается по качеству — и что это "дар Памяти, матери всех муз". Когда мы видим, слышим или мыслим что-либо, мы подкладываем этот воск под наши чувства и мысли и запечатлеваем их на нем, так же, как оставляем след печатью.[58]
Но Платон в отличие от Аристотеля полагает, что существует знание, не выводимое из чувственных впечатлений, что в нашей памяти хранятся формы или шаблоны идей, сущностей, которые душа знала до того, как была низвергнута сюда. Подлинное знание заключается в приведении отпечатков, оставляемых чувствами, в соответствие с шаблоном или отпечатком высшей реальности, которую отображают вещи здесь, внизу. В Федоне доказывается, что чувственные объекты соотносимы с определенными типами, подобием которых они являются. Мы не видели и никто нас не учил различать типы в этой жизни, но мы видели их перед тем, как началась наша жизнь и знание о них врождено в нашу память. В качестве примера Платон указывает на соотнесенность наших чувственных восприятий одинаковых предметов с врожденной идеей тождества. Мы постигаем тождественное в тождественных предметах, например, в одинаковых деревянных брусках, поскольку идея тождества была запечатлена в нашей памяти, и эта печать хранится в воске нашей души. Подлинное знание состоит в подгонке отпечатков от чувственных восприятий к основополагающей печати или следу Формы или Идеи, которой соответствуют предметы наших чувств.[59] В Федре, где Платон выражает свое отношение к риторике — которая побуждает людей к познанию истины — он снова развивает ту мысль, что знание истины и души заключено в памяти, в припоминании некогда виденных всеми душами идей, смутными копиями которых являются все земные вещи. Всякое знание и всякое научение есть попытка припомнить сущности, привести в единство множество чувственных восприятий посредством соотнесения их с сущностями. "В земных копиях справедливости, умеренности и других идей, которые дороги душам, нет света, и лишь немногие, приблизившись к этим образам с помощью несовершенных чувств, способны разглядеть в них природу того, чему они подражают".[60]
Диалог Федр является трактатом о риторике, где последняя рассматривается не как искусство убеждения, которое следует применять ради достижения личной или общественной выгоды, но как искусство выражения истины в речи и побуждения слушателей к поиску истины. Сила ее основывается на знании души, а знание истины о душе заключается в припоминании идей. В этом трактате памяти не отводится "раздел" как одной из частей риторического искусства; память в платоновском смысле это основа всего целого.
Ясно, что искусная память для Платона, как она используется софистами, есть анафема, осквернение памяти. На самом деле, платоновские насмешки над софистами, к примеру, над их бессмысленным употреблением этимологии, можно объяснить, если просмотреть софистический трактат о памяти, где такие этимологии используются как память для слов. Платоническая память должна быть устроена не в тривиальной манере подобных мнемотехник, а в соответствии с сущностями.
Грандиозная попытка построить именно такую память в структуре искусства памяти была предпринята неоплатониками Ренессанса. Одно из наиболее впечатляющих проявлений ренессансного применения этого искусства — Театр Памяти Джулио Камилло. Используя образы, расположенные на местах неоклассического театра — то есть точно следуя технике искусной памяти — система памяти у Камилло основывается, по его убеждению, на архетипах реальности, в соответствии с которыми вспомогательные образы охватывают всю сферу природы и человека. Камилловский подход к памяти по существу платоничен, хотя в Театре мы встречаемся и с герметическими и каббалистическими влияниями, и нацелен он был на построение искусной памяти, основанной на истине. "И если ораторы античности", говорит он, "день за днем размещая части своей речи, которую им надлежало запомнить, вверяли их шатким местам и ненадежным вещам, то поистине, мы, желая навечно сохранить вечную природу всех вещей, выражаемую в речи… должны отвести им вечные места".[61]