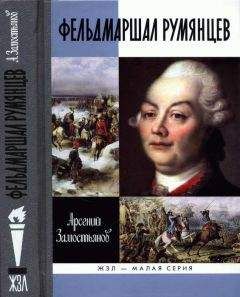Алесь Адамович - Блокадная книга
Юра, как и все его сверстники, никогда не считал, что надо чем-то доказать, заслужить право на высокие мечты, надежду на счастливое, содержательное будущее, а тем более право на жизнь. Что может быть естественнее этого права? Мечты – пусть, надежды – ладно, но чтобы и право на жизнь, просто жизнь, нужно было доказать, заслужить?!. Но именно такое время пришло, такой момент подступил: смерть, смерть на каждом шагу. Все отнято у него: тепло, пища, даже любовь матери, которая (как Юре кажется) все больше сживается со страшной мыслью, что если еще и можно спасти хотя бы Иру, то лишь задавив в себе жалость к налитому водянкой, обессилевшему сыну, который уже неспособен даже выйти, выехать из города, если они и получат разрешение на эвакуацию… (Повторим, так кажется Юре, так зафиксировано в его дневнике, а как и что на самом деле чувствовала мать, как узнаешь об этом?)
На что, на кого ему, обессилевшему, опереться, как уйти от смерти, вырваться туда, где жизнь, где какое-то будущее?.. И не какое-то, а выверенное страданиями немыслимыми, муками тяжелейшими! Это будущее, жизнь свою – если ему ее подарят – Юра видит как служение другим, честность, скромность, доброту. Он и сейчас готов – хотя так хочется жить, жить! – пожертвовать собой, только бы не помешать матери и Ире спастись…
Тем, кто рядом с ним (и Юре самому), кажется, что он опустился, потерял себя, а он поднялся как никогда прежде, обрел себя высшего…
Что же до обращения к богу, то чувство это совсем не церковное – откуда оно могло взяться у Юры? Скорее это обращение к судьбе, мольба к провидению, надежда на случай и на какого-то вполне реального Пашина из райкома. Конечно, тут есть своя сложность. Признаемся, в дни войны были такие страшные, отчаянные минуты, когда невольно обращаешься к чуду; ребенок, тот твердит: «Мама!» – а мы, уже солдаты, правда еще не обстрелянные, тоже тогда взывали к судьбе, к надежде, к видению… Было это, и никуда от этого не денешься.
И вот наступил этот момент – день эвакуации. То немногое, что нужно в дорогу и что можно увезти, уложено на саночки. Юра приподнялся с кровати, поискал свою палочку (дневник при нем?), попытался встать, не смог, не сумел, упал на кровать…
ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
Блокада была противоборством с фашизмом, противостоянием ему на всех уровнях и по всем возможным направлениям: от Ставки в Москве до малого радиуса Г. А. Князева или Юры Рябинкина.
Тот немецкий офицер, который навестившую его невесту «угостил Петербургом» – несколькими орудийными выстрелами, сделанными любопытной и боязливой ручкой патриотки фройляйн (факт, записанный Ольгой Берггольц),– и бывший работник Публичной библиотеки артиллерист Сергей Миляев, у которого в этом «Петербурге» умирающие от голода дети,– оба офицеры-артиллеристы, но один на стороне бесчеловечности, второй – защитник человека и человеческой культуры во второй мировой войне.
Люди, которые изыскивали, изобретали пищу и витамины из бог знает каких заменителей, люди, добывавшие топливо, тепло, оберегавшие детские жизни, культурные и научные ценности,– их вклад в героическое противостояние Ленинграда фашизму, может быть, был не столь очевидным, как залпы Кронштадта. Но это тоже было противостояние, и не менее важное для исхода борьбы на северном фланге бескрайнего фронта.
Работник Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина «неисправимый интеллигент» С. Г. Миляев стал опытным артиллеристом; профессор лесотехнической академии В. И. Шарков создает пищевые дрожжи и прочие заменители, спасшие жизнь тысячам людей; рядовой техник Б. И. Шелищ, понуждаемый самой обстановкой (не стало бензина, электроэнергии), изобретает «водородный двигатель» из подручных материалов, с помощью которого поднимались и опускались аэростаты заграждения.
А врачи! Им приходилось многое открывать заново. Обнаружилось, что мировая медицина поразительно мало знает о голоде, о дистрофии. Иногда кажется, что человечество совершенно по-детски спешит забывать неприятные переживания, обидные, унизительные, к которым относится и массовый голод.
В письме-отклике на публикацию первой части «Блокадной книги» один из ленинградцев рассказал, как он попал в стационар, лежал там десять дней и удивил врача тем, что сильно потерял в весе. Он терял воду (был опухший), приходя в норму, но тогда об этом не сразу догадались. Или трагические случаи в Кобоне, когда вывезенные за Ладогу дистрофики набрасывались на пищу и погибали… На одной из станций, мимо которой проезжали эвакуированные, они прочли плакат: «Горячий привет ленинградцам-дистрофикам!» Люди, это написавшие, начисто забыли даже значение самого слова «дистрофия». Будто и не было 1921 или 1933 годов!..
Жозуа де Кастро сообщает в книге «География голода», что при освобождении заключенных из фашистских концлагерей обнаружилась все та же поразительная забывчивость людей, даже медиков, в отношении болезни, именуемой дистрофией. Заново и не сразу открыли, вспомнили, что наилучшее и первое средство – снятое молоко. А пока вспоминали, освобожденные дистрофики продолжали погибать, несмотря на весь уход и старания врачей.
«До самого последнего времени,– утверждает автор книги „География голода“,– вопрос этот, поскольку он затрагивает проблемы социального и политического характера, был одним из табу нашей цивилизации. Это была наша в высшей степени уязвимая ахиллесова пята – тема, которую было небезопасно обсуждать публично…
Для организованного заговора молчания имелось несколько причин. На первом месте стояли соображения морального порядка; голод относится к числу примитивных инстинктов, и на рационалистическую культуру, пытавшуюся всеми средствами утвердить в поведении человека господство разума над инстинктом, сама постановка подобного вопроса действовала шокирующе…»
Блокадные ленинградцы многое изобретали заново – в условиях самых стесненных. С чем только не приходилось сталкиваться, бороться рядовому блокаднику, которого Г. А. Князев называет пассивным героическим защитником Ленинграда! Голодному, среди трупов, во тьме кромешной…
И он тоже стал специалистом, этот невооруженны защитник Ленинграда,– и не только в деле, к котором его приставил фронтовой город.
О том, как бывшие блокадники относятся к хлебу, об этом писали. Но вот как они по-особому понимают, ощущают человека – об этом сказать стоит. Люди такое пережили, такое видели, узнали о себе и о других, что почти каждый задумывался о человеке, его возможностях и об их пределах и каждый может высказать вам свое суждение об этом. Г. А. Князев судит о человеке со стороны прежде всего духовной. Для него это естественный, «профессиональный», если хотите, угол зрения. От медика вы услышите и о физических возможностях, пределах человеческого организма.
Но чаще, нежели о физических возможностях, блокадники свидетельствуют о духовных проявлениях, резервах человеческих, как это им открылось в те дни и месяцы.
Людмила Николаевна Бокшицкая вспоминает:
«Я пережила блокаду в самом суровом смысле: без запасов, без помощи, но с верой, что скоро кончится. Но наступил момент, уже в декабре 1941 года, когда стало безразлично: не могли пойти выкупить хлеб, не вставали с кровати. Лежали трое: мама, сестра и я. Не реагировали на сигналы тревоги, не слышали, что летят бомбардировщики. И как вы пишете: „У каждого был свой спаситель“… В нашу комнату вошла соседка Надежда Сергеевна Куприянова. Она решила, что и мы уже мертвые, так как в квартире, где было много жильцов, живых уже не было… Увидев, что и мы уже „залегли“, что мы уже безразличны к тому своему состоянию, Надежда Сергеевна со словами, что она не даст погибнуть семье такой замечательной женщины, ушла. Скоро она вернулась с дровами. Затопила печку, принесла воду. Сказав, что им в госпитале дали кролика, поставила в печку кастрюлю с кроликом. Варился суп, она нас мыла, отгородив одеялом от основного холода. За эти дни наша угловая комната первого этажа так промерзла, что тепло было только у печки в радиусе одного метра. Только после обеда мы узнали, что это кошка, последняя, наверное, а не кролик. Этот обед и это внимание позволили продержаться до 10 января 1942 года.
8 и 9 января мы опять без ощущения, что с нами происходит, лежали с мамой, две дочери, во всей одежде, не выкупая хлеб, и уже не говорили о нем, как это было раньше. Мама начала шевелиться, что-то, как мне показалось, во сне начала тихо спрашивать. А потом мама как бы с испугом задала вопрос: какое сегодня число? И по тому, что мы два дня не выкупали хлеб, установили, что было 10 января 1942 года. И вдруг мама сказала, что в этот счастливый для нее день мы не должны умирать, сегодня же день рождения Люсены, т. е. мой день рождения. Мы должны сегодня встать и устроиться на снегоуборочную работу. Очевидно, услышала по радио, что требовались рабочие… И теперь эту дату я считаю не только своим вторым днем рождения, но и днем рождения общим, для мамы и сестры. Мы пошли на улицу Скороходова, где был пункт по трудоустройству… Сначала мы делали по три шага и останавливались, но ненадолго, затем по десять шагов… Я помню, как мы считали, чтобы не больше, боясь, что можем не справиться, как мы останавливались, проявляли бдительность, чтобы не замерзнуть»…