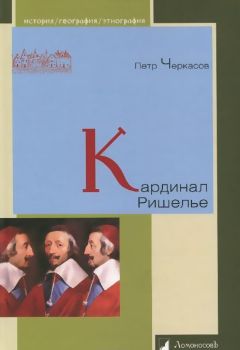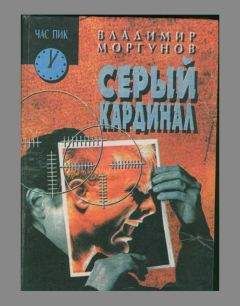Владимир Успенский - Тайный советник вождя
Сочувствуя бойцам, томясь бездельем, вспомнил я прием, часто применявшийся в разные времена у разных народов. Не самый, может быть, добропорядочный, но надежный. А вспомнив, обратился к районным властям, чтобы выяснить, в чем особенно нуждается местное население? Мне ответили: в одежде и обуви. Плохо и с тем, и с другим. Я немедленно предложил начальнику с ромбами быстро и широко объявить о том, что гражданин, обнаруживший бежавшего преступника, получит полный комплект одежды: полушубок, шапку, сапоги и костюм. Начальник заколебался, но я объяснил ему, что комплект одежды несравнимо дешевле для государства, чем использование вне казарм нескольких батальонов и сотен сотрудников НКВД, задействованных в операции только на нашем участке. Никто не знает округу, укромные места лучше, чем здешние жители. Если Гай тут — его обнаружат. Если он уже далеко, это не наша вина. Ну, а материальную ответственность за выделение казной комплекта одежды я могу взять на себя. Начальник же обязан за несколько часов всеми средствами оповестить народ о назначенном поощрении. Элементарный расчет был на крестьянскую, на мелкобуржуазную психику: без ощутимой выгоды крестьянин не почешется, пальцем не двинет.
Считаю — сработало именно это. На следующий день к учителю в селе Давыдовском, неподалеку от станции Берендеево, явился корявый, скверно одетый мужичонка. Сославшись на свою серость, малую грамотность, принялся расспрашивать: верно ли, что какой-то убивец сбежал с поезда, теперь его ищут и вроде бы обещали с ног до головы одеть-обуть того, кто на убивца укажет? Не враги ли? Не обман ли от властей? А может, еще и деньги обещаны к одежонке?
Учитель сразу смекнул, что к чему. Сам был заинтересован в скорейшей поимке преступника, считая его опасным уголовником. Боялся за своих учеников, предупреждал, чтобы за околицу не выходили, за опятами, за клюквой в лес не бегали. Ну и нажал учитель на мужичка: "Выкладывай, как на духу!" Тот помялся-помялся и выложил. Ездил он за сеном к дальним стогам. Уже воз навьючил, когда увидел в соседнем стогу лаз, и вроде бы что-то шевельнулось там, в глубине. Колхозник перетрусил и скорее — в село. Никому ничего не сказал, распряг лошадь и отправился к учителю за советом. Ну а тот, естественно, знал, как поступить. Вскоре в Давыдовское прибыла группа захвата. Начальство срочно выехало на дрезине. Оно же, это начальство, на той же дрезине доставило беглеца в Берендеево.
Выглядел Гай скверно. Грязные ботинки, измятые брюки, какой-то бесформенный свитер — даже фуражки не было. Волосы слипшиеся, всклокоченные. Намерзся за несколько суток в стогу, оголодал. Его осторожно спустили на землю, повели, поддерживая с двух сторон. Настолько слаб? Нет, почему-то почти не ступал на левую ногу, волочил ее.
Я возмутился. Улучив момент, сказал начальнику с ромбами:
— Вас предупреждали, — никаких мер воздействия! Что с ногой?
У того исчезло радостное оживление. Ответил торопливо:
— Ничего не было. Он даже вылез сам, не вытаскивали. А ногу повредил, когда из вагона прыгнул. Потому и не ушел далеко.
Бледное лицо Гая выражало усталость и безразличие. Оживился он лишь в ту минуту, когда увидел меня. Мы с ним официально не были знакомы, но несколько раз встречались в служебной обстановке, и он сразу понял, что я тут не случайно. В заблестевших глазах — смущение и надежда. А мне вспомнилось, что испытал я давным-давно, в восемнадцатом году, когда оказался под конвоем у красных, среди совершенно чужих людей, и вдруг узнал в одном из командиров Иосифа Джугашвили. Крепко повезло мне в тот раз.
Гая отвели на почту, дали умыться, вернули брошенные им в вагоне пальто и фуражку, покормили. Врач осмотрел поврежденную ногу и принял необходимые меры. После этого я попросил оставить нас вдвоем. Все вышли. Гай жадно курил, дорвавшись до папирос. Я сказал ему:
— Задам важный вопрос и попрошу ответить искренне. Разговор останется между нами. Знать о нем может только один человек.
— Иосиф Сталин? — сообразил Гай.
— Товарищ Сталин, — подтвердил я. — Зачем вы, Гайк Дмитриевич, совершили побег, с какой целью? Намеревались уйти за границу к нашим врагам?
— Этого я и боялся, — потерянно произнес он. — Боялся, что расценят именно так.
— А каким образом можно еще расценить? Вы что, хотели скрываться в стране под чужим именем?
— Нет! Пробрался бы в Москву, обратился в Политбюро, к самому Сталину.
— Это наивно, никто не допустит. Вас сразу бы арестовали.
— Не прямо к Сталину. Встретился бы с Микояном. Он хорошо знает меня, через него… Но я не собирался оправдываться. Мне не в чем оправдываться. Попросил бы только одно: дать мне самое трудное задание, послать в самое опасное место, хотя бы на войну в Китай, чтобы я мог погибнуть с пользой и честью, доказать свою преданность партии. Чтобы моя жена и дочь… Других помыслов у меня не было. Вы верите мне? — с надеждой спросил Гай.
— Вполне, — успокоил я взволнованного, болезненно возбужденного человека. И повторил это же, вернувшись в Москву, в разговоре с Иосифом Виссарионовичем. Подчеркнул, что слова Гая звучали убедительно.
— У меня нет особых претензий к нему, — вслух рассуждал Сталин. — Но у него нашлось много противников, и обвинения выдвинуты серьезные. Утверждают, что Гай в двадцатом году столкнулся с агентурой Пилсудского и, по крайней мере, не сделал всего того, что мог бы сделать под Варшавой… Утверждают, что, уведя свои войска в Германию, спасая их от бслополяков, Гай установил связь с немецкой разведкой… Сейчас он очень осложнил свое положение, но мы оставим побег без последствий, словно его не было. Гая отвезут туда, куда и везли. Пока он в Коровниках, наши органы не спеша разберутся во всем.
Так, собственно, и было. Наказания за побег Гай не понес. В Ярославле у него была отдельная камера, сносное питание, имел возможность читать, переписываться с родными. Но «разбирательство» затягивалось. А после процесса над группой Тухачевского, после ареста других военных руководителей надежды на освобождение Гая истаяли. Могу лишь еще раз сказать, что Сталин до самого конца не утратил уважение к Гаю. Об этом свидетельствует то, что с ним хорошо обращались в тюрьме. В декабре 1937 года ему разрешили свидание с женой. А буквально через несколько дней, в полной секретности, без присутствия обвиняемого, без участия свидетелей, суд рассмотрел дело Гая и вынес смертный приговор, который сразу же был приведен в исполнение…
Печальную историю Гайка Дмитриевича я излагаю довольно подробно по двум причинам. Насколько мне известно, это был единственный побег, совершенный у нас в то время арестованным военачальником высокого ранга. Больше никто из них не пытался бежать. Ну, а еще — это был один из первых порывов ветра, предвещавший тот ураган, который вскоре обрушился на наши Вооруженные Силы.
10В период массовых репрессий был один человек, которого особенно ненавидели Ягода, Ежов, Гоглидзе, Кобулов, Берия и другие выдающиеся экспериментаторы в деле "преобразования лиц высокопоставленных в лиц далекоотправленных" — сия циничная фраза принадлежала верному соратнику Берии, его помощнику Гоглидзе. С каким восторгом они свалили бы этого человека, растоптали бы за то, что он пытался вмешиваться в их «деятельность». Да и самому Сталину доставлял он немало хлопот.
Речь идет о главе нашего государства, о Председателе ЦИК СССР, с января 1938 года Председателе Президиума Верховного Совета СССР — Михаиле Ивановиче Калинине. Он тогда, пожалуй, был единственным государственным деятелем высшего звена, который возражал против необоснованных арестов и казней, делал попытки восстановить справедливость. Вот тридцать седьмой год. Арестованы Шотман, Правдин, Енукидзе. И сразу последовал резкий протест Калинина. Он просил Сталина принять для беседы жену Шотмана, которую Иосиф Виссарионович хорошо знал. Еще бы не знать: в 1912 году она переправляла его из Финляндии через границу. И все же Сталин наотрез отказался беседовать с кем-либо по поводу арестованных.
Итоги подобных «стычек» между Сталиным и Калининым были не в пользу последнего. Являясь главой государства, Михаил Иванович почти не обладал реальной властью, и чем дальше, тем больше ограничивал его в этом отношении Иосиф Виссарионович, забирая все бразды правления в собственные руки. Система расправы с ведущими гражданскими и военными деятелями упрощалась. НКВД готовил предложения по приговорам (проекты приговоров), Сталин утверждал их. После этого никто и ничто не могло изменить, переиначить. Дела проштамповывал суд Военной Коллегии, решения его не подлежали обжалованию даже в Президиуме Верховного Совета. И все же Калинин не прекращал борьбы, так раздражавшей бериевскую рать. Он не имел возможности влиять на решения Сталина, но ведь и помимо этого были сотни, тысячи судебных дел по всей стране; волна репрессий, начавшаяся в центре, катилась к окраинам. В приемную Верховного Совета шли письма с просьбой посодействовать, разобраться, восстановить истину. Вот лишь один из многочисленных ответов Калинина — он обращается к коменданту стрелковой охраны Смоленска: