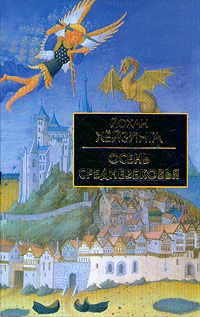Йохан Хёйзинга - Осень Средневековья
Нежная женская непосредственность этих стихов, которые свободны ото всех по-мужски тяжеловесных, надуманных рассуждений и лишены красочных украшений и фигур, навеянных Романом о розе, несомненно, делает их для нас вполне удобоваримыми. В них раскрывается одно-единственное, только что схваченное настроение. Тема, зазвучавшая в сердце, тут же воплощается в образ, не нуждаясь в том, чтобы прибегать за помощью к мысли. Но именно поэтому такие стихи особенно часто обладают свойством, характерным как для музыки, так и для поэзии любой эпохи, где вдохновение покоится исключительно на увиденном в течение одного-единственного мгновения: тема чиста и сильна, песнь начинается ясной и устойчивой нотой, вроде трели дрозда, – но уже после первой строфы у поэта или певца полностью всё исчерпано; настроение улетучивается, и дальнейшая разработка тонет в бессильной риторике. Отсюда и то постоянное разочарование, которое уготовано нам почти всеми поэтами XV в.
Вот пример из баллады Кристины Пизанской:
Quant chacun s’en revient de l’ost
Pour quoy demeures tu derrière?
Et si scez que m’amour entière
T’ay baillée en garde et depost1280.
Из войска всяк спешит в свой кров.
Тебя ж какая держит сила?
Ведь я свою любовь вручила
Тебе в защиту и покров.
Здесь, казалось бы, может последовать тонкая средневековая французская баллада на манер Леноры. Но поэтессе более нечего сказать, кроме этих начальных строк; еще две краткие, незначительные строфы – и стихи приходят к концу.
Как свежо начинается Le débat dou cheval et dou lévrier [Прение коня и борзой] Фруассара:
Froissart d’Escoce revenoit
Sus un cheval qui gris estoit,
Un blanc lévrier menoit en lasse.
«Las», dist le lévrier, «je me lasse,
Grisel, quant nous reposerons?
Il est heure que nous mengons»1281.
Фруассар с Шотландией простился,
На сером скакуне пустился
Он к дому, с белою борзой.
Та говорит: «Серко, постой.
Пусть налегке, невмочь трусить.
Пора бы нам перекусить».
Но тон этот не выдерживается, и стихотворение быстро сникает. Тема лишь увидена, она не претворяется в мысль. Иной раз темы дышат поразительной убедительностью. В Danse aux Aveugles [Tанце Слепцов] Пьера Мишо мы видим человечество, извечно танцующее вокруг тронов Любви, Фортуны и Смерти1282. Однако разработка с самого начала не поднимается выше среднего уровня. Exclamacion des os Sainct Innocent [Вопль костей с кладбища Невинноубиенных младенцев] неизвестного автора начинается призывом костей в галереях знаменитого кладбища:
Les os sommes des povres trespassez,
Cy amassez par monceaulx compassez,
Rompus, cassez, sans reigle ne compas…1283
Усопших бедных ломаные кости,
Разбросаны по кучкам на погосте,
Нестройно, без правила и кружал…
Зачин вполне подходит, чтобы выстроить самую мрачную жалобу мертвецов; однако из всего этого не получается ничего иного, кроме memento mori самого заурядного свойства.
Все эти темы – лишь образы. Для художника такая отдельная картинка заключает в себе материал для подробной дальнейшей разработки, для поэта, однако, этого отнюдь не достаточно.
ГЛАВА XXI
Слово и образ
Итак, не превосходит ли своими выразительными возможностями живопись XV в. литературу вообще во всех отношениях? Нет. Всегда остаются области, где выразительные средства литературы по сравнению с живописью богаче и непосредственнее. Такова прежде всего область смешного. Изобразительное искусство, если оно и нисходит до карикатуры, способно выражать комическое лишь в незначительной мере. Комическое, изображаемое всего-навсего зрительно, обладает склонностью переходить снова в серьезное. Только там, где к изображению жизни комический элемент примешивается в не слишком уж больших дозах, где он всего лишь приправа и неспособен перебить вкус основного блюда, изображаемое может идти в ногу с тем, что выражают словесно. Такого рода комическое, вводимое в весьма малой степени, мы находим в жанровой живописи.
Здесь изобразительное искусство всё еще полностью на своей территории.
Неограниченная разработка деталей, на которую мы указывали выше, говоря о живописи XV столетия, незаметно переходит в уютное перечисление мелочей, в жанровость. Детализация полностью превращается в жанр у Мастера из Флемалля. Его плотник Иосиф сидя изготавливает мышеловки1284. Жанровое проглядывает в каждой детали; между манерой ван Эйка, тем, как он оставляет открытый ставень или изображает буфет или камин, и тем, как это делает Робер Кампен, пролегает дистанция, отделяющая чисто живописное видение от жанра.
Но и в этой области слово сразу же обретает на одно измерение больше, чем изображение. Настроение уюта оно в состоянии передать эксплицитно. Обратимся еще раз к описаниям красоты замков у Дешана. Они, в общем-то, не удались, оставаясь далеко позади в сравнении с достижениями искусства миниатюры. Но вот – баллада, где Дешан рисует жанровую картинку, изображая самого себя, лежащего больным в своем небогатом небольшом замке Фим1285. Совы, скворцы, вороны, воробьи, вьющие гнезда на башнях, не дают ему спать:
C’est une estrange melodie
Qui ne semble pas grand déduit
A gens qui sont en maladie.
Premiers les corbes font sçavoir
Pour certain si tost qu’il est jour:
De fort crier font leur pouoir,
Le gros, le gresle, sanz séjour;
Mieulx vauldroit le son d’un tabour
Que telz cris de divers oyseaulx,
Puis vient la proie; vaches, veaulx,
Crians, muyans, et tout ce nuit,
Quant on a le cervel trop vuit,
Joint du moustier la sonnerie,
Qui tout l’entendement destruit
A gens qui sont en maladie.
Звучанья странные вокруг
Нимало не ласкают слух
Тому, кого сразил недуг.
Сперва вороны возвестят
Дня наступление: так рано,
Как могут, ведь они кричат
Шумливо, резко, неустанно;
Уж лучше грохот барабана,
Чем этака докучна птица;
Там – стадо крав, телят влачится,
Мычаньем омрачая дух,
И мнится, мозг и пуст, и сух;
Звон колокола полнит луг,
И разум словно бы потух
У тех, кого сразил недуг.
Вечером появляются совы и жалобными криками пугают больного, навевая ему мысли о смерти:
C’est froit hostel et mal reduit
A gens qui sont en maladie.
Ce хладный кров и злой досуг
Для тех, кого сразил недуг.
Но стоит только проникнуть в повествование проблеску комического или хотя бы намеку на занятное изложение – и чередование следующих друг за другом событий сразу же перестает быть утомительным. Живые зарисовки нравов и обычаев горожан, пространные описания дамских туалетов рассеивают монотонность. В длинном аллегорическом стихотворении L’espinette amoureuse1286 [Тенёта любви] Фруассар неожиданно забавляет нас тем, что перечисляет около шестидесяти детских игр, в которые он играл в Валансьене, когда был мальчишкой1287. Служение литературы бесу чревоугодия уже началось. У обильных трапез Золя, Гюисманса, Анатоля Франса были прототипы в Средневековье. Как это чревоугодие лоснится от жира, когда Дешан и Вийон, обглодав сочную баранью ножку, облизывают свои губы! Как смачно описывает Фруассар брюссельских бонвиванов, окружающих тучного герцога Венцеля в битве при Баасвейлере; при каждом из них состоят слуги с притороченными к седлу огромными флягами с вином, с запасами хлеба и сыра, с пирогами с семгой, форелью и угрями, и всё это аккуратно завернуто в салфетки; так они откровенно противопоставляют свои привычки суровым требованиям похода1288.
Будучи способна передавать жанровость, литература этого времени оказалась в состоянии внести прозаическое также и в поэзию. В своем стихотворении Дешан может высказать требование об уплате ему денег, не снижая при этом обычного для него поэтического уровня; в целом ряде баллад он выпрашивает то обещанные ему дрова, то придворное платье, то лошадь, то просроченное содержание1289.
От жанра к причудливому, к бурлеску, или, если угодно, к брёйгелеску, всего один шаг. В этой форме комического живопись также сопоставима с литературой. На рубеже XV в. брёйгеловский элемент в искусстве наличествует уже полностью. Он есть в брудерламовском Иосифе из дижонского Бегства в Египет, в спящих солдатах на картине Три Марии у Гроба Господня, ранее приписывавшейся Хуберту ван Эйку1290. Вряд ли кто-либо столь силен в нарочитой причудливости, как Поль Лимбург. Один из персонажей, взирающих на входящую в храм Марию, – в изогнутой, высотою в локоть шапке-колпаке чародея и с рукавами длиною в сажень. Бурлеском выглядит изображение крещальной купели, на которой мы видим три уродливые маски с высунутыми языками. Не менее гротескно обрамление изображения Марии и Елизаветы, где некий герой, стоя на башне, сражается с улиткой, а другой персонаж везет на тачке поросенка, играющего на волынке1291 1292.