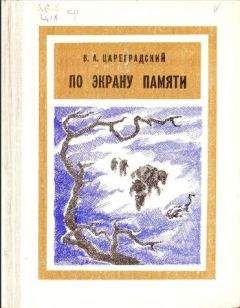Неизвестен Автор - Воспоминания крестьян-толстовцев (1910-1930-е годы)
Знают ли коммунисты своих мнимых "врагов" и "контрреволюционеров-толстовцев", отбрасывающих, как противоречащий разуму, метод насилия, а признающих только разумное и прекрасное, что намечено в теории новой стройки бесклассового общества - новой стройки коммунизма?
Знают ли коммунисты, что толстовцы, по своей идее и по своему методу безнасилия, являются не врагами коммунизма, а друзьями? И не только рядовыми друзьями, а пионерами новой стройки?
Знают ли коммунисты, что обе идеи - и теория коммунизма, и разумная религиозность толстовства - необходимы, жизненны и своевременны?
Знают ли коммунисты, что эти два течения не так уж враждебны между собою, чтобы иметь эту грань - скамью подсудимых? Должно быть, коммунисты не знают всего этого, поскольку имеется эта картина судящих и судимых. Но если коммунисты и толстовцы мало знали друг друга до настоящего момента, то теперь стыдно не знать, теперь должны как те, так и другие понять и, вместо произнесения незаслуженного сурового приговора, должны бы протянуть друг другу руки для взаимного понимания и для осуществления единой разумной жизни.
Мы поймем, что человек, стремящийся к истине, но делающий еще по незнанию ошибки, не так уж виновен, как нам казалось. Мы поймем, что скорее тот виновен, кто знал верный путь к высшей жизни, но умышленно уклонялся от него или умышленно извращал его. Если человек знает, в чем истинная жизнь, но не следует этому знанию или даже извращает это знание, то это есть непростительная хула на дух жизни, это есть зарывание таланта. И совсем не враг тот, кто открыто и смело говорит и предупреждает об опасности; а скорее враг тот, кто молчит, зная опасность, или даже подставляет ногу, когда человечество катится в пропасть вражды и ненависти. Но человек, искренно желающий и стремящийся к разумной жизни, если и делает еще по неведению ошибки, то он не виновен.
Виноват ли человек за то, что он понял, что он не какой-то простой комок глины, из которой можно лепить что угодно и кому угодно, но что он духовная сущность, единая со всей духовной жизнью?
Виноват ли человек, понявший свою духовную сущность, переставший вести борьбу с другими такими же духовными существами, как он - людьми, за какие-то личные эгоистические преимущества и за материальные блага?
Виноват ли человек, понявший свое духовное единство со всей жизнью и начавший гармонировать свои поступки с требованиями этой жизни?
Каждый мыслящий человек скажет, что не только не виноват такой человек, понявший духовное единство, но что всем нам надо понять это единство и начать борьбу с нашим несовершенством.
Изложив вкратце миропонимание так называемых толстовцев и их бескровную революционность, я думаю, что люди суда, люди социализма и коммунизма поймут то великое значение нравственно-разумных идей своих мнимых врагов, поймут не как врагов, а как близких друзей, помогающих строить жизнь на разуме. А поняв идеи и стремления своих подсудимых, поймут и свои ошибки по отношению к мнимым виновникам и вообще ошибки, совершаемые против разума, против жизни, перестанут совершать их и начнут исправляться, руководствуясь разумом.
Друзья-толстовцы тоже больше поймут и почувствуют жизненное значение разума, нашего высшего сознания, а поняв, будут во всех своих поступках руководиться разумом и станут меньше делать ошибок.
Думаю, что, подойдя со всех сторон к настоящему делу, а главное, осветив его разумом, нашим высшим сознанием, мы можем предотвратить могущий случиться юридический казус. А посему моим душевным пожеланием будет и для судящих, и для "подсудимых": стараться избегать казусов, стараться избегать недоразумений как в данном явлении судебного процесса, так и вообще в повседневной нашей жизни. Не судить и осуждать мы должны, а прощать друг друга, помня пословицу: "Лучше двадцать виновных простить, чем одного невинного наказать".
Я. Драгуновский. 25 мая 1935 года.
Письма Я. Д. Драгуновского из тюрьмы и лагеря
Письмо первое. Детям. Август 1936 года
Милые дети: Ваня, Клава, Люба, Фрося! Помните, как вечером 8 августа уполномоченные НКВД со своим кучером, забирая меня больного с постели, говорили мне, что берут только для того, чтобы там, в НКВД, поговорить со мной, выяснить дело, и меня отпустят, как отпустили Клементия Красковского. Я, конечно, таким словам не верил, и, действительно, они оказались ложью. Что дальше со мной было, я расскажу вам подробно.
Как с постели взяли меня и понесли в повозку так вежливо, как бы боясь потревожить мою больную ногу, так же и в Сталинске (Новокузнецке) осторожно сняли меня с повозки и внесли в комнату на постель. Здесь же мне пообещали больничное лечение, но хорошо, что я взял с собой бутылку с чаем для обливания компресса, а тут и чайник вы передали скоро, и я спасал себя от болей компрессами.
Обещанный врач пришел только 13-го, посмотрел ногу и, не говоря о диагнозе и лечении, стал спрашивать статью и потом, выходя из камеры, сказал, что "я справлюсь у следователя Ястребчикова о подсудности".
Три дня разбирали мою подсудность и ставили диагноз болезни по статье, наконец 16-го я был в поликлинике No 2. Откинув тряпки компресса, мне сделали перевязку: на язвы наложили марли, обмоченные в марганце, затем ваты, бинт - и готово. Вторая перевязка была назначена на 19-е августа. Начиная с утра и до самого вечера 19-го я и Борис Мазурин просили и умоляли отвезти меня в клинику на назначенную врачом перевязку, но так и не повезли. 20-го опять стали просить, и наконец вечером 20-го взяли на перевязку. От ноги стало отвратительно пахнуть (ведь четыре дня лежит повязка). Развязали, обмыли и опять такую же повязку положили. На третью перевязку доктор назначил уже не через три дня, а через два, т. е. 22-го в шесть часов вечера. Опять с утра и до вечера мы стали напоминать служителям о перевязке. Особенно Борис часто напоминал, но безрезультатно. 22-го на перевязку не повезли. Пробовал Борис напоминать 23-го, но я стал просить Бориса не беспокоить, не сердить их. Наверное, таково отношение к заключенным: не как к людям, а как к отбросам общества. Я решил не беспокоить никого своей больной ногой: пусть будет, что будет. Понятно, хорошего ничего не будет. Ведь дома я лечил себя то компрессами, то солнечными или паровыми ваннами, ногу облегчал и не так страдал, а теперь пятый день сегодня, как лежу в повязке: нога болит и тяжело пахнет.
Утром 9 августа сторожа зовут меня наверх, на допрос. Я сказал, что на допрос не пойду, потому что не считаю себя виновным, и как человек, признающий руководителем в жизни разум, наше высшее сознание, это духовное начало, не могу идти на компромисс, не могу поддерживать насилие, не хочу развращать ни себя, ни других споим повиновением принуждению. Служители не могли понять этого. Один из них грозно крикнул, но я на грубый возглас не ответил; тогда двое молодцов подхватили меня под руки и под ноги и потащили на четвертый этаж в комнату НКВД к Смирнову и положили на пол.
Смирнов улыбнулся и говорит: "Что, ты и перед судом будешь так лежать?"
- А что ж тут плохого? - сказал я.
Смирнов предложил мне сесть на стул. В комнате было три человека: начальник НКВД Смирнов, уполномоченный, который забирал меня из дома, и еще один о военной форме, которого Смирнов называл Волосовским.
Волосовский стал засыпать меня вопросами о моем отношении к власти и насилию. Он стал придумывать, что если я против насилия, стало быть, и против советской власти, потому, что я, живя здесь, против насилия именно здесь, в советской стране. Видя, что Волосовский искусственно развивает софизм в таком направлении, не хочет слушать и понимать моих объяснений, я сказал, что перестану отвечать. После этого Смирнов стал разъяснять, почему меня арестовали:
"На предварительном совещании крайсуда установлена твоя вина, и до суда тебя надо содержать под стражей, вот я и распорядился взять тебя под стражу".
Я спросил: "В чем же моя виновность?"
Смирнов сказал: "Материализм и идеализм - противоположные мировоззрения, и люди этих убеждений не могут сойтись для устройства одной жизни. Тебя как последователя идеализма решили изолировать стенами тюрьмы".
Письмо второе. Детям. 9 ноября 1936 года
Меня опять сносили на 4-й этаж к начальнику НКВД Смирнову на беседу. "Начальник" Смирнов посулил мне за мое неподчинение "усиление наказания". В процессе беседы Смирнов опять напомнил, что суд даст мне годиков пяток за мою виновность.
- В чем же эта виновность? - снова спросил я. - Ведь донос, по которому вы привлекаете меня к ответственности, оказался ошибочным.
- За литературу, отобранную у тебя, - сказал Смирнов.
- Да ведь эта литература была разрешена в 20-м году, - сказал я.
- В 20-м была разрешена, а в 36-м привлекаем к ответственности.
Я хотел было доказать духовное единство жизни, но Смирнов не стал слушать: "Некогда".