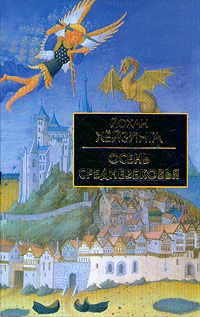Йохан Хёйзинга - Осень Средневековья
Литература располагает всё еще весьма примитивными средствами для передачи эффектов освещения, хотя безусловно проявляет чувствительность к бликам света, к сиянию; как уже говорилось выше, сама красота осознавалась прежде всего как блеск и сияние. Писатели и поэты XV столетия с удовольствием отмечают сияние солнечного света, блеск факелов и свечей, отражение световых бликов на шлемах и оружии воинов. Но всё это остается простым сообщением, для описания этого какие бы то ни было литературные приемы пока что отсутствуют.
Поиски литературных приемов, эквивалентных эффектам освещения в живописи, в основном происходят в несколько иной области: впечатление данного момента времени удерживается благодаря живому употреблению прямой речи. Вряд ли когда-либо еще литература до такой степени стремилась передавать диалог во всей его непосредственности. Злоупотребление этим приемом, однако, делает текст нудным и утомительным: даже изложение политических событий облекается у Фруассара и его современников в форму вопросов и ответов. Нескончаемый обмен торжественно падающими – и гулко отзывающимися репликами нередко лишь увеличивает монотонность, вместо того чтобы с нею разделаться. Но иной раз иллюзия непосредственности и сиюминутности получает довольно отчетливое выражение. И мастером самых живых диалогов здесь прежде всего является Фруассар.
«Lors il entendi les nouvelles que leur ville estoit prise. (Участники разговора выкрикивают свои реплики.) „Et de quel gens?“, demande-il. Respondirent ceulx qui à luy parloient: „Ce sont Bretons!“ – „Ha, dist-il, Bretons sont mal gent, ils pilleront et ardront la ville et puis partiront“. (Снова кричат.) „Et quel cry crient-ils?“ – dist le chevalier. „Certes, sire, ils crient La Trimouille!“» [«И тут услыхал он новость о том, что их город захвачен. <…> „А кем?“ – спрашивает он. И те, с кем он разговаривал, отвечают: „Бретонцами!“ „Ну, – говорит он, – бретонцы дурные люди, они разграбят и сожгут город, а затем уж уйдут“. <…> „А каков у них клич? – спрашивает шевалье“. „Ну конечно, сир, кричат они: Ля Тримуй!“»].
Для оживления разговора Фруассар пользуется определенным приемом: отвечающий с удивлением повторяет реплику собеседника. «„Monseigneur, Gaston est mort“. – „Mort?“ – dit le conte. – „Certes, mort est-il pour vray, monseigneur“» [«„Монсеньор, Гастон мертв“. – „Мертв?“ – переспросил граф. – „Конечно, вправду мертв, монсеньор“»]. Или в другом месте: «Si luy demanda, en cause d’amours et de lignaige, conseil. „Conseil“, – respondi l’archevesque, – „certes, beaux nieps, c’est trop tard. Vous voulés clore l’estable quant le cheval est perdu“»1254 [«И он попросил у него совета в любви и в семейных делах. „Совета? – произнес архиепископ. – По правде говоря, мой любезный племянник, теперь уже поздно. Вы хотите запереть конюшню после того, как лошадь уже пропала“»].
Поэзия также щедро прибегает к этому стилистическому приему. В короткой стихотворной строке вопросы и ответы порою повторяются дважды:
Mort, je me plaing. – De qui? – De toy.
– Que t’ay je fait? – Ma dame as pris.
– C’est vérité. – Dy moy pour quoy.
– Il me plaisoit. – Tu as mespris1255.
Смерть, я виню. – Кого? – Тебя.
– В чем? – Госпожу мою сгубила.
– Да, это так. – Зачем? – Губя,
Я радуюсь. – Ты зло свершила.
Здесь всё время прерывающийся обмен репликами уже более не средство, а цель: достижение виртуозности. Поэт Жан Мешино умеет доводить этот искусный прием до высочайшего уровня. В балладе, в которой несчастная Франция обвиняет своего короля (Людовика XI), обмен репликами в каждой из тридцати строк происходит по три-четыре раза. И нужно сказать, что воздействие стихотворения как политической сатиры от этой непривычной формы отнюдь не снижается. Вот первая строфа баллады:
Sire… – Que veux? – Entendez… – Quoy? – Mon cas.
– Or dy. – Je suys… – Qui? – La destruicte France!
– Par qui? – Par vous. – Comment? – En tous estats.
– Tu mens. – Non fais. – Qui le dit? – Ma souffrance.
– Que souffres tu? – Meschief. – Quel? – A oultrance.
– Je n’en croy rien. – Bien y pert. – N’en dy plus!
– Las! si feray. – Tu perds temps. – Quelz abus!
– Qu’ay-je mal fait? – Contre paix1256. – Es comment?
– Guerroyant… – Qui? – Vos amys et congnus.
– Parle plus beau. – Je ne puis, bonnement1257.
Сир… – Что тебе? – Внемлите… – Ты о чем?
– Я… – Кто ты? – Франция опустошенна.
– Кем? – Вами. – Как? – В сословии любом.
– Молчи. – Се речь терпенья несконченна.
– Как так? – Живу, напастьми окруженна.
– Ложь! – Верьте мне. – Пустое ремесло!
– Молю! – Напрасно. – Се творите зло!
– Кому? – Противу мира. – Как? – Воюя…
– С кем? – Ближних истребляете зело.
– Учтивей будь. – Нет, право, не могу я.
Еще одним выражением поверхностного натурализма в литературе этого времени является следующее. Хотя намерения Фруассара направлены на описание рыцарских подвигов, он с большой точностью изображает – можно сказать, вопреки своей воле – прозаическую реальность войны. Так же как и Коммин, который подтрунивает над рыцарством, Фруассар особенно наглядно описывает усталость, ненужные приготовления, бессмысленные передвижения войск, беспокойство ночного лагеря. Он умеет мастерски передавать настроение промедления и ожидания1258.
В скупом и точном рассказе о внешних обстоятельствах того или иного события он достигает порою почти трагической силы, как, например, в описании смерти юного Гастона Феба, в гневе заколотого своим отцом1259. Фруассар настолько фотографичен, что за его словами распознаются черты рассказчиков, поверяющих ему свои бесчисленные faits divers [происшествия]. Так, всё, что поведал его попутчик, рыцарь Эспен дю Лион, передано просто великолепно. Там, где литература безыскусно описывает, не испытывая помех со стороны всевозможных условностей, она сравнима с живописью, хотя всё же не может не уступать ей.
Эти непринужденные наблюдения не распространяются на изображение в литературе картин природы. К природоописанию литература XV столетия отнюдь не стремится. Ее наблюдения ограничиваются пересказыванием эпизодов, если находят их важными, – при том, что все внешние обстоятельства фиксируются так, как если бы они были запечатлены на светочувствительной пластинке. Об осознанной литературной манере здесь не может быть и речи. Однако изображение природы, которое для живописи являлось естественной принадлежностью этого вида искусства и происходило как бы само собою, в литературе – сознательный стилевой прием, привязанный к определенным формам, вне какой-либо потребности в подражании. В живописи изображение природы было делом побочным и поэтому могло оставаться чистым и сдержанным. Именно потому, что сюжет не имел отношения к ландшафтному фону, а последний не являлся составным элементом иерархического стиля, художники XV столетия могли придавать своим пейзажам ту меру гармоничной естественности, в которой строгие предписания, касающиеся сюжета, всё еще отказывали основному изображению. Египетское искусство являет собою точную параллель этой особенности: в моделировке фигурок рабов, из-за того что это было не главным, художник отказывался от формальных канонов, требовавших в изображение людей вносить определенные искажения, – и иногда именно эти второстепенные фигурки демонстрируют изумительную по чистоте верность природе, так же как и фигурки животных.
Чем меньше проявляется связь ландшафта с основным изображением, тем гармоничнее и естественнее покоится он в самом себе. В качестве фона в напряженном, вычурном, помпезном Поклонении волхвов на миниатюре из Très riches heures de Chantilly1260 [Роскошного часослова из Шантийи] вид Буржа возникает в мечтательной нежности, завершенный атмосферой и ритмом.
В литературе описание природы всё еще выступает в пасторальных одеждах. Выше мы уже говорили о шедших при дворе спорах «за» и «против» бесхитростной сельской жизни. Точно так же, как в те времена, когда на небосводе всходила звезда Жан-Жака Руссо, считалось хорошим тоном сетовать на усталость от суетной придворной жизни и аффектированно выражать охоту к мудрому бегству от соблазнов двора, дабы услаждать себя ржаным хлебом и беззаботной любовью Робена и Марион. Это было сентиментальной реакцией на полнокровную пышность и высокомерный эгоизм окружающей реальности, реакцией ни в коей мере не фальшивой, но при этом в основе своей – манерой поведения всё же чисто литературного свойства.
К той же манере поведения относится и любовь к природе. Поэтическое выражение ее чисто условно. Природа была излюбленным элементом большой светской игры, развивавшейся в рамках придворной эротической культуры. Описание красоты цветов и птичьего пения сознательно культивировалось в предписанных формах, понятных каждому из участников. Поэтому изображение природы в литературе стоит на совершенно ином уровне, нежели в живописи.
Не считая пастушеских стихотворений и разработки мотива раннего весеннего утра в качестве обязательного вступления, едва ли имелась еще какая-либо потребность в изображении природы. Иной раз в повествование может влиться несколько фраз о природе, как мы это видим у Шателлена в описании выпавшей росы (и именно ненамеренная природная зарисовка чаще всего оказывается наиболее впечатляющей). Остается еще пасторальная поэзия, где и следует наблюдать возникновение в литературе чувства природы. Для того чтобы продемонстрировать в общих чертах известный эффект разработки деталей, можно наряду с уже упоминавшимися выше страницами из Алена Шартье предложить в качестве примера стихотворение Regnault et Jehanneton, строками которого венценосный пастух Рене облекает свою любовь к Жанне дё Лаваль. Но и здесь целостное видение картины природы отсутствует, здесь нет единства, которое художник в состоянии придать пейзажу посредством цвета и света; всё это остается лишь прелестным нанизыванием ряда отдельных деталей. Щебечущие птички – одна, сменяющая другую, насекомые, лягушки, наконец, идущие за плугом крестьяне.