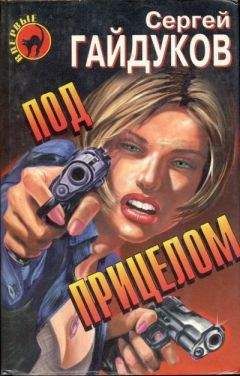Дмитрий Фурманов - Из дневников (Извлечения)
Гнал экстренно переписчицу-машинистку (остатки заканчивала), сам ночи напролет торопился - работал, проверял, выправлял, отчеканивал. Прихожу в Истпарт к Штейман дней через пяток после сдачи первой части материала, спрашиваю: как?
- Что как? - смотрит совой через пенсне.
- Рукопись-то...
- Какая?
Сердце опустилось. Начали вспоминать, разбираться. Вышло: лежит она себе спокойно в столе, ждет какого-то своего особенного часа: предназначалась Невскому* - того все нет. Лепешинский захворал: так и полеживает себе, несчастная... Вот так ударная!
Скоро увиделся с Лепешинским.
Обида взяла. Заметил я, что относиться стали в Истпарте худо, как к "назойливому". Осердился, плюнул, перестал ходить, звонить, справляться: будь что будет! Повесил голову. Опечалился. Заниматься ничем не мог: гвоздем в сердце вошел "Чапаев" - а ну, как его перерабатывать придется, выправлять? Надо мысли, напряжение свое, энергию для него сохранить. И заново писать не брался: не мог. Подошла кстати нужда библиотеку разобрать - ею и занялся, ухлопав на это целых две недели. А "Чапаев" из головы не выходит. О том, чтобы надеяться на выход его к годовщине, и думать перестал, считал это уж и физически невозможным: вот 15 февраля, через неделю празднество, а типографии наши какие: хотя бы "ВНиР"* свой, он размером такой же, как и книжка, ожидается 13 - 15 листов. Сколько времени "выходил"? Да больше месяца: сдал 2 января, выпустил 12 февраля! Так что думать о выходе к годовщине - считал уже детским, несерьезным мечтанием. 15-го решил сходить в Истпарт: не могу же, в самом деле, я окончательно махнуть рукой, не безразлично же мне это?! Звоню Лепешинскому в Кремль: дома?
- Нет, в Истпарт ушел.
- Выздоровел, значит? Работает?
- Работает. Первый день как вышел.
Звоню к Штейман в Истпарт:
- Могу сегодня с тов(арищем) Леп(ешински)м поговорить?
- Можно, приходите...
Обычно она говорила:
- Справлюсь... Узнаю... А что вам? Он занят...
Поэтому поспешность эта сразу меня приятно озадачила и взволновала, но смутно, без серьезного обнадеживанья. Звонил в 12. Чуть доработал до 3-х, прихожу к той же Штейман, хочу спросить: могу ли с Леп(ешински)м поговорить, а она сразу:
- Карточку надо нам... Чапаева.
Почувствовал доброе в этом предзнаменованье.
Зачем же иначе чапаевская карточка, если рукопись не принята? Но тут же и сомнение молнией: - А если только для выставки истпартовской? Рядом Розен стоит, он, кажется, "выпускающим" тут состоит, в Истпарте.
- К Леп(ешинско)му можно?
- Можно, идите.
И это удивительно: без предварительной справки. Вхожу, вижу знакомую огромную седую голову - склонилась над столом. Тихо ему:
- Здравствуйте, т(оварищ) Лепешинский!
Поднял голову от стола, с добрым взглядом.
- А... а... а... здравствуйте, здравствуйте...
Протянул руку, потом на стул показывает. Сел я. Молчу. Жду, что скажет. А сам чуть сдерживаю радостное волненье, вижу кругом, что исход благоприятный.
- Рукопись ваша отдана в набор...
Я чуть не ахнул от восторга. Но уж порешил быть сдержанным, не объявлять своего дикого мальчишеского восторга. Кусаю губы, подпрыгиваю на стуле, руками шебуршу по портфелю, кажется, полез доставать в нем что-то, а совсем и не надо ничего.
- Рукопись пошла... Набирается... Я там кой-что того - понимаете?
- Да, да... конечно.
Я знал, что он говорит про сокращения, выброски, которые сделал. Но это меня уже мало интересует: что именно выброшено, много ли, почему - да боже мой! Не все ли равно! Только бы книга шла: вся шла бы, а выкидок, ясное дело, меньше того, что осталось! Охваченный удивительным своим состоянием, пронизанный радостью, спрашиваю:
- Что там?
И голосу своему стараюсь придать некоторую небрежность, хочу быть спокойным. Верно, не удается мне это: глаза выдают, полагаю, что горели они тогда, как угли!
- Да вот разговор Андреева с Федором выпустил: длинно, вяло и не нужно совсем. "Револьвер" тоже выпустил. На что он? Это же совсем частный эпизод. Нового - что он дает нового? А к Чапаеву - какое у него отношение к личности Чапаева? Да никакого! Выпустил. Ну еще там из мелочи кой-что... Это немного... Как смотрите?
- Да так-так, - отрубил я, не собравшись с мыслями, совершенно механически. - Так-так, конечно... Я потому и говорил: "carte blanche". Непременно так... Если бы я сам взялся исправлять: да что я выброшу? Самому-то мне все кажется одинаково удачным... Пристрастен...
- Знаете, - перебил он, - тире у вас, тире этих - бездна. Просто неисчислимо!
- Ах, это беда моя... С детства, с ученической скамьи, - подхватил я с каким-то восторгом, будто дело касалось чего-то очень, очень большого и важного. - Я никак избавиться от этого не могу... Беда моя...
- А остальное - грамотно... Очень грамотно... Вот читал я - и в некоторых местах очень, очень растрогался... Особенно сцена эта, последняя, когда погибает Чапаев: она превосходная... Превосходна. Или театр этот... Как там рядами-то сидели... Ваша эта хороша - как ее: Зинаида... Петровна?
- Зоя Павловна, - подсказал я.
- Да, хороша она... Культработница... Да... Вообще - вторая половина - она лучше первой, сильнее, содержательнее, крепче написана. Даже не половина, а две трети... Первая часть слабее. В общем: отлично. Гоним, хотим успеть, чтобы к годовщине Кр(асной) Армии успеть... Отлично... Она, книга эта - большой поимеет интерес. Большое получит распространение. Хорошо будет читаться... Да! Хорошая будет книга... Повторяетесь кое-где, это верно, но я выправил. Очень внимательно выправлял. Неопытность видна. Но хорошо... хорошо...
Можно представить, что было со мной! Говорили о разном больше часа. Между прочим, об обложке. Он тут же набросал эскиз и так, что мне сразу понравилось: просто и стильно. Я согласился. Позвали Розена, заказали ему и обложку сделать и бумагу, цвет выбрали. Потом опять сидели-толковали... Я ему даже коротко про верненский мятеж рассказал... Хорошо побеседовали. Я видел, что книга произвела на него большое впечатление, и отношение его ко мне сразу улучшилось.
Как угорелый примчался я домой, бросил на пол портфель и давай отделывать вприсядку! Ная с минуту недоумевала, не могла понять, что случилось, а потом поймала меня, схватила голову, стала целовать, приговаривать:
- Знаю... знаю... знаю... Приняли? "Чапаева" приняли? Да?
- Да... да... - задыхался я, вырывался снова из ее объятий, снова и снова кидался плясать.
Через минуту достал чапаевскую карточку и помчался - усталый и потный - в Истпарт. Отдал Штейман, она улыбнулась, дескать: "Ишь как прытко забегал..."
Весь вечер, ночью занимаясь - только о "Чапаеве", только о нем и думаю. Сегодня отнесу еще "Посвящение", а потом спросить хочу Лепешинского, не даст ли он свое предисловие? Мнения он о книжке отличного: пусть даст! Кашу маслом не испортишь! А может, и не скажу ему ничего, еще сам того не знаю... Пойду...
20 ф е в р а л я
"ЧАПАЕВ"
Вчера были на авторской корректуре три листа (2, 3, 4-й). Тщательнейше страдал над ними - часа по два над каждым. А то и больше. Так никогда не страдаю, когда "ВМиР"* хотя бы на свет произвожу, а там ведь я - выпускающий. Тут по-иному чувствую себя: свое... родное... "Чапаев" тут...
Своя рубаха к телу ближе. Свое дитя - дороже. Вот они, непроизвольные доказательства наших инстинктов! Многое от старого, так многое, что буквально на каждом шагу!
3 м а р т а
"ЧАПАЕВ" И СЧАСТЬЕ
В течение недель двух, когда уже все определилось, когда книга принята, набирается, печатается, когда уверен, что она пойдет, безусловно пойдет, ничто ее не задержит, оплачена на 80%, - вся нервность пропала, острота переживаний миновала. Иду по бульвару и размышляю:
"Жизнь... Что такое жизнь? Это сумма всяческих моментов, отличных, счастливых и гнусных, отвратительно мрачных. Жизнь - неустанные поиски счастья. Каждый ищет его, каждый ищет по-своему и в разном видит его, узнаёт, чувствует. Но спроси человека: где твое счастье? Он ответа тебе не даст. Когда ты это счастье знал? Конкретно, определенно, назови мне момент и факты, которые считаешь выявлением счастья? На это тебе человек никогда ничего не ответит, ибо он знать своего счастья не умеет (пока что), а только умеет ждать его, искать, надеяться на него... Мало. Но большего не умеет. Так вот, идучи бульваром, думал: где счастье? К примеру, скажем, написал вот книгу, "Чапаева" написал. Всю жизнь мою только и мечтал о том, чтобы стать настоящим писателем, одну за другой выпускать свои книги. Это - мечта всей жизни. Так неужели нельзя счастьем назвать то время, когда выходит первая большая книга? Ведь, кажется, надо бы в бешенство от счастья и удовлетворенья приходить! Надо бы сказать себе определенно: вот оно, счастье! Я его ждал, искал, добивался - и вот оно со мною, у меня, я им обладаю: чего ж еще?" Так размышлял, идучи Пречистенским бульваром. Было время, плыли часы предвечерних сумерек. Тихо, широкими мягкими хлопьями падал, порхая меж дерев, предвесенний прощальный снег... Скоро весна. Скоро тепло, ручьи, птицы, переполненное сердце. Но теперь кругом все еще белые, теплые пуховики оробевшего снега. Он затаился, как заяц от опасности, он знает, что скоро его не будет, и мохнатую рыхлую голову вобрал в оголенные плечи, задышал слабосильными, неядреными ветрами, стал беспомощен и тих, пародией на бураны, только яснее обнаружил, как слаб, беспомощен, обречен на близкую погибель...