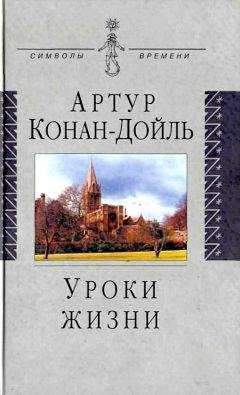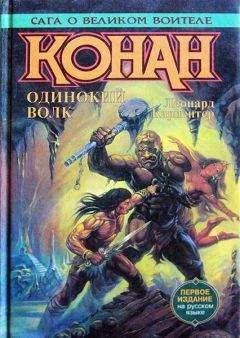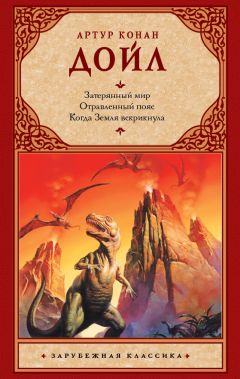Леон Урис - Эксодус (Книга 3, 4 и 5)
Китти была тронута до глубины души.
- Я этого ничем не заслужила.
- Дети инстинктивно чувствуют, кто им действительно друг. Может быть, пройдемся теперь по Ган-Дафне?
- С удовольствием.
Китти была на целую голову выше доктора Либермана. Они медленно пошли назад к административным зданиям. Доктор Либерман то держал руки за спиной, то хлопал себя по карманам в поисках спичек, чтобы прикурить.
- Я приехал сюда из Германии в 1934 году. Мне с самого начала было ясно, что тогда назревало. Моя жена прожила здесь недолго. После ее смерти я до 1940 года преподавал классическую филологию в Иерусалимском университете. Потом Харриет Зальцман предложила мне основать здесь молодежное селение. Это было как раз то, о чем я мечтал долгие годы. Покойный мухтар Абу-Йеши, очень великодушный человек, предоставил в наше распоряжение это плато. Вот если бы все арабы и евреи жили между собой так же мирно... У вас нет спичек?
- К сожалению, не захватила.
- Ничего, я и так курю слишком много. Они подошли к газону в центре села. Отсюда можно было лучше всего обозреть всю долину Хулы.
- Вон там, в долине, наши поля. Их нам дал мошав Яд-Эль.
Они остановились перед статуей.
Это Дафна. Она была из Яд-Эля, воевала, конечно, в рядах Хаганы, и погибла. Ари Бен Канаан ее очень любил. Ее именем и названо наше селение.
У Китти сжалось сердце - точно, от ревности. Пусть это только изваяние, а все-таки Дафна сильнее ее. Бронза изображала грубую крестьянскую девушку, как Иордана Бен Канаан или те девушки из селения, которые пришли вчера к Бен Канаанам.
Доктор Либерман принялся махать руками.
- Со всех сторон нас окружает история. По ту сторону долины - гора Хермон, а рядом - древний Дан. Я мог бы продолжать часами... тут каждый клочок земли пропитан историей.
Маленький горбун с гордостью смотрел на свое детище, потом взял Китти под руку и повел ее дальше.
- Мы, евреи, создали здесь в Палестине странную цивилизацию. Всюду в мире культура шла из крупных городов. Здесь происходит обратное. Извечная тоска евреев по собственной земле настолько сильна, что именно от земли берет свое начало решительно все. Наша музыка, наша поэзия, наше искусство, наши ученые и наши бойцы - все они пришли из киббуцов и мошавов. Вы видите домики детей?
- Вижу.
- Обратите внимание, что все окна выходят на долину, к нашим полям. Последнее, что они видят засыпая, и первое, просыпаясь, это их земля. Добрая половина школьных дисциплин здесь - сельскохозяйственные. Питомцы нашего села уходили группами и создавали новые киббуцы. Мы полностью кормим себя сами. Сами выращиваем овощи, птицу и скот, в которых мы нуждаемся. Мы даже сами себя одеваем. Мы сами изготавливаем свою мебель, сами ремонтируем свои машины в наших мастерских. Все это делают сами дети; у них даже есть собственное управление, и надо сказать, очень толковое.
Они дошли до противоположного конца лужайки. Как раз перед зданием управления газон внезапно обрывался: длинная траншея шла вокруг всего плато. Китти посмотрела вокруг и увидела новые окопы и даже бомбоубежище.
- Вот это, конечно, уже не так красиво, - сказал доктор Либерман. - К тому же дети здесь уж больно восхищаются подвигами. Боюсь, что так оно и останется, пока мы не обретем независимость и не сумеем построить жизнь на более гуманных началах, чем оружие.
Они пошли вдоль траншеи. Китти поразило странное явление. На самой бровке траншеи стояли несколько деревьев. В одном месте траншея проходила так близко, что корни одного из деревьев были совершенно оголены. На стенке траншеи, под верхним слоем земли, можно было видеть толстый слой скалы. Скалу пересекали тоненькие слои земли, толщиной не больше двух-трех дюймов. Прямо не верилось, что дерево могло расти на таком месте, но корни вели упорную борьбу: они тоненькими прожилками извивались над и под скалой, сбоку, становясь толще всякий раз, когда им удавалось найти живительный слой грунта.
- Посмотрите, как упорно борется это дерево за свое существование, сказала Китти. - Посмотрите, с каким упорством корни прокладывают себе путь в скале.
Доктор Либерман внимательно смотрел несколько секунд на корни.
- Это дерево олицетворяет историю евреев, вернувшихся в Палестину, сказал он.
Ари стоял в высокой гостиной Тахи, мухтара Абу-Йеши. Молодой араб, его друг детства, взял какой-то плод с огромного подноса и погрыз его, не сводя глаз со своего друга, который тут же заходил по комнате взад и вперед.
Хватит лицемерной болтовни как на переговорах в Лондоне, - начал Ари. Нам с тобой это ни к черту. Давай поговорим без обиняков.
Taxa положил плод на стол.
- Как мне убедить тебя, Ари? На меня всячески нажимают. Но я все же не сдаюсь.
- Не сдаешься? Taxa, ты забываешь, с кем ты разговариваешь.
- Но ведь времена какие!
- Постой, постой. Жители моего и твоего села пережили вместе два периода смуты и погромов. Ты учился в нашей школе. Ты жил в нашем доме, и мой отец взял тебя тогда под свою личную опеку.
- Правильно. Я обязан вам моей жизнью.
Теперь ты требуешь, чтобы все село доверило вам свою жизнь. Вы сами, небось, вооружаетесь. Почему же нам нельзя? Неужели, если у нас будет оружие, вы нам не сможете больше доверять? Но мы ведь вам доверяли?
- Я тебя просто не узнаю.
- Я надеюсь, что не доживу до того дня, когда нам с тобой придется вступить в драку. Однако сидеть сложа руки теперь не приходится, и ты это прекрасно знаешь.
Ари резко обернулся.
- Taxa! Какая муха тебя укусила? Ладно, если ты так настаиваешь, я напомню тебе все еще раз. Вот эти ваши каменные дома, кто их проектировал и построил? Мы! Только благодаря нам ваши дети умеют читать и писать. Благодаря нам у вас есть теперь сточные трубы, и детям не приходится умирать, не достигнув и шести лет. Мы научили вас обрабатывать землю как надо и жить по-человечески. Мы дали вам то, чего ваши собственные братья не дали бы вам и за тысячу лет. Твой отец это знал прекрасно и у него достало ума и мужества признать, что никто так не эксплуатирует арабов, как арабы же. Он и умер оттого, что знал, что евреи ваше спасение, и он не побоялся постоять за свои убеждения.
Taxa поднялся.
- А ты мне поручишься, что Маккавеи не придут в Абу-Йешу еще этой ночью и не вырежут нас всех?
- Поручиться я, конечно, не могу, но ты прекрасно знаешь, кого и что представляют Маккавеи, и кого и что представляет Муфтий.
- Я никогда не подниму руку на Яд-Эль, Ари. Клянусь тебе в этом.
Ари ушел. Он не сомневался, что Taxa ему не лгал, но у Тахи не было того мужества, каким обладал Каммаль, его отец. Хотя они и заверили друг друга в том, что мир между ними не будет нарушен, но пролегла какая-то трещина между Яд-Элем и Абу-Йешей, совершенно так же, как произошла она и у всех других арабских и еврейских селений, мирно соседствовавших до сих пор.
Taxa смотрел вслед своему другу, который вышел из дома и зашагал по улице вдоль реки и мимо мечети. Ари давно уже исчез из виду, а он продолжал неподвижно стоять у окна. С каждым днем нажим все больше усиливался, и даже в его собственном селе звучали упреки. Ему говорили, что он араб и мусульманин, и что ему надо принять сторону своих. Но как мог он выступить против Ари и Барака Бен Канаана? А с другой стороны, как мог он заставить молчать недовольных в селе?
Он и Ари - братья. Так-таки братья? Вот вопрос, который не переставал мучить его. С самого детства отец учил его управлять селом. Он знал, что евреи построили все крупные города страны, и шоссе, и школы; что они заново освоили землю, и что их культурный уровень гораздо выше, чем у арабов. В самом ли деле он им ровня? Не является он скорее второсортным гражданином в собственной стране, вынужденный подхалимничать, подбирать крохи и жить в тени еврейских достижений?
Да, евреи принесли ему немалую пользу. Жителям его села они принесли еще большую пользу, так как его отец понял, что от евреев можно получить гораздо большую пользу, чем от своих же арабов. Но все-таки, разве он им ровня? Реально ли его равенство, о котором все время толковали ему евреи, или оно всего лишь пустая фраза? Действительно ли они видят в нем товарища, или просто терпят его?
Был ли он настоящим братом Ари Бен Канаану, или только бедным родственником? Taxa задавал себе этот вопрос все чаще и чаще. И каждый раз он все увереннее отвечал на этот вопрос: он только числился братом.
Какая цена тому равенству, в котором заверяли его евреи? Разве мог он, араб, заявить открыто, что он тайно любит Иордану Бен Канаан, и что длительное молчание совершенно его измучило? Он любил ее с тех самых пор, когда он жил в ее доме, а ей не было еще и тринадцати лет.
Докуда распространяется их равенство? Согласятся ли они когда-нибудь, чтобы он женился на Иордане? Придут ли на их свадьбу все эти проповедующие равенство мошавники из Яд-Эля?
А что произойдет, если он, Taxa, пойдет к Иордане и признается ей в любви? Она, вне всякого сомнения, только плюнет на него.