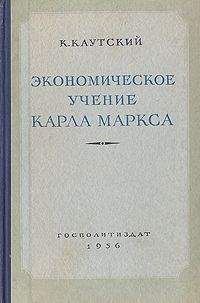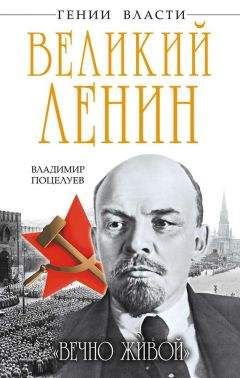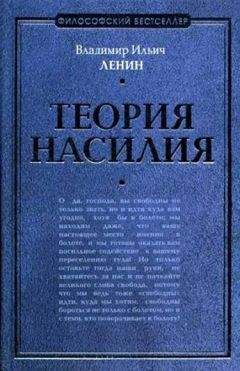Славой Жижек - 13 опытов о Ленине
В таком случае неудивительно, что, когда по пути из дома в театр в июле 1953 года Брехт пропускал колонну советских танков, движущихся к Stalinallee7, чтобы подавить восстание рабочих, он махал им рукой, и — он описал этот день в своем дневнике — в тот момент у него впервые в жизни (он никогда не был членом партии) возник соблазн вступить в Коммунистическую партию8 — не является ли это образцовым случаем того, что Ален Бадью назвал la passion du reel9, которая была определяющей чертой двадцатого столетия? Дело не в том, что Брехт считал допустимой безжалостную борьбу в надежде на то, что она приведет к процветанию в будущем: грубость настоящего насилия, как такового, воспринималась и одобрялась как признак подлинности. Для Брехта советская военная интервенция против рабочих Восточного Берлина была нацелена не на рабочих, а на «организованные фашистские элементы», эксплуатировавшие недовольство рабочих; поэтому он утверждал, что советское вмешательство на самом деле предотвратило новую мировую войну10. Даже на личном уровне Брехт «имел подлинную симпатию к Сталину»11, он развивал линию аргументации, оправдывающую революционную необходимость диктатуры одного человека12; его реакцией на «десталинизацию» на двадцатом съезде КПСС в 1956 году было: «Без знания диалектики невозможно понять переход от Сталина как двигателя <прогресса> к Сталину как тормозу»13. Короче говоря, вместо того чтобы отречься от Сталина, Брехт играл в псевдодиалектическую игру: «что было прогрессивным прежде, в 1930-х и 1940-х годах, теперь (в 1950-х) превратилось в препятствие…» Возникает даже соблазн истолковать смерть Брехта (осенью 1956 года, вскоре после двадцатого съезда КПСС и незадолго до венгерского восстания) как своевременную: милосердие смерти избавило его от необходимости столкнуться со всей болью «десталинизации».
Желающим увидеть Брехта в лучшем виде нужно обратить внимание на великую немецкую сталинистскую музыкальную тройку: Брехт (слова), Ханс Эйс-лер (музыка), Эрнст Буш (постановка). Чтобы убедиться в подлинном величии сталинистского проекта, достаточно послушать одну из величайших записей двадцатого века — «Исторические записи» Ханса Эйслера (Berlin Classics, LC 6203) на слова (главным образом) Брехта и с песнями в исполнении (главным образом) Буша. В их, быть может, наивысшем достижении, «Тюремной песне» из пьесы «Мать», речь о разрыве между символическим сломом противника и его действительным поражением идет именно тогда, когда брошенный в тюрьму рабочий Павел обращается к тем, кто облечен властью:
У них законы и уставы,
У них тюрьмы и крепости <…>
У них тюремщики и судьи,
Им платят вдосталь, они на все готовы.
А что толку?<…>
Прежде чем исчезнуть —
А этого ждать недолго —
Поймут они, что все это
Им уже ни к чему.
У них типографии и газеты,
Чтоб нас побеждать и лишать языка <…>
У них попы и ученые.
Им платят вдосталь, они на все готовы.
А что толку?
Разве так уж страшна для них правда?
У них пушки и танки,
Гранаты и пулеметы <…>
У них полицейские, солдаты,
Им платят мало, они на все готовы.
А что толку?
Разве так могучи враги их? <…>
Но день настанет — ждать недолго, — Поймут они, что все это Им уже ни к чему.14
Реальному поражению врага, таким образом, предшествует символический слом, внезапное осознание, что борьба бессмысленна, а все оружие и инструменты, которыми он располагает, бесполезны. На это и делается основная ставка в демократической борьбе: по a priori структурным причинам, а не только вследствие какого-то случайного просчета, враг неверно воспринимает координаты глобальной ситуации и концентрирует ненужные силы в ненужном месте. Два недавних примера. Что сделал репрессивный аппарат шаха в 1979 году, столкнувшись с народным движением Хо-мейни? Он попросту рухнул. А была ли использована в 1989 году раздутая сеть агентов и информаторов «Штази» коммунистической номенклатурой Восточной Германии, столкнувшейся с нарастающим массовым протестом? Крупные репрессивные режимы никогда не проигрывали во фронтальном противостоянии — в определенный момент, когда «старый крот» доводит до конца свою не видимую на поверхности работу внутренней идеологической дезинтеграции, они просто рушатся. Не считая возвышенного шедевра
«Хвала коммунизму» («он то простое, что трудно совершить»15), третьей ключевой песней в «Матери» является «Песня о пиджаке и заплатке», которая начинается с иронического описания гуманистов, сознающих настоятельную необходимость помощи бедным:
Каждый раз, когда пиджак у нас порвется, Прибегаете вы с криком: «Что за ужас! Всеми средствами помочь необходимо!» И к хозяевам бежите вы поспешно… Мы стоим и ожидаем на морозе. И назад вы возвращаетесь ликуя — Показать что вы для нас отвоевали: Маленькую заплатку! Ладно, это — заплатка, Но где же целый пиджак?16
После повторения этого язвительного риторического вопроса насчет хлеба («Ладно, это — ломтик, но где же весь каравай?»17) песня заканчивается внезапным взрывом требований («Нам нужен целый завод, / И уголь, и руда, / И власть в государстве»18) — собственно революционный момент, когда quid pro quo обменов с теми, кто у власти, рушится, а революционеры жестко заявляют, что они хотят всего, а не только «всего лишь» какой-то крупицы этого… Брехт выступает здесь в качестве полной противоположности Дьердю Лукачу: именно потому, что Лукач, «мягкий» европейский гуманист, играл роль «кабинетного диссидента» во времена «партизанской войны» против сталинизма и даже присоединился к правительству Имре Надя в 1956 году, поставив тем самым под угрозу свое физическое существование, он был крайним сталинистом. В отличие от Лукача к Брехту сталинистский культурный истеблишмент относился нетерпимо именно из-за его «сверхортодоксальности» — в культурном универсуме сталинизма нет места «Мероприятию». Если молодой Лукач «Истории и классового сознания» был философом ленинского исторического момента, то в 30-х он превратился в идеального сталинистского философа, который именно по этой причине — в отличие от Брехта — не сумел осознать подлинное величие сталинизма.
* * *1. Одна из отчаянных стратегий сохранения утопического потенциала двадцатого столетия заключается в том, чтобы заявить: если двадцатый век сумел породить неслыханное Зло (Холокост и ГУЛАГ), то это служит доказательством от противного того, что аналогичная избыточность возможна и в противоположном направлении, то есть радикальное Добро также осуществимо., что, если это противопоставление ложно? А что, если мы здесь имеем дело с тождественностью на более глубоком уровне, что, если радикальное Зло двадцатого столетия было именно результатом попыток непосредственного осуществления радикального Добра?
2. Georgi Dimitroff. Tagebiicher, 1933–1943. Berlin: Aufbau Verlag, 2000.
3. Одним из немногих историков, готовым посмотреть в лицо этому мучительному напряжению, является Шейла Фицпатрик, которая указала на то, что 1928 год был годом сокрушительного перелома, поистине второй революцией, не каким-то «Термидором», но последовательной радикализацией Октябрьской революции. См.: Stalinism. New Directions, edited by Sheila Fitzpatrick. London: Routledge, 2001.
4. Alain Badiou. Petit manuel d'inesthetique. Paris: Editions du Seuil, 1998, p 16.
5. Ibid.
6. Ibid
7. Цит. no: Sydney Hook. Out of Step. New York: Dell, 1987, p. 493.
8. Аллея Сталина (нем.).
9. Carola Stern Maennerliebenanders Helene Weigel und Bertolt Brecht Reinbekbei Hamburg: Rowohlt, 2001, S 179.
10. Жажда реального (фр.).
11. Bertolt Brechl. Gesammelte Werke Band 20. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1967, S. 327.
12. The Cambridge Companion to Brecht, edited by Peter Thomson. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p. 162.
13. Bertolt Brecht Dber die Diktaturen eizelner Menschen in- Schrif-ten. Vol. 2. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1973, S 300–301.
14. Bertolt Brecht. Gesammelte Werke. Band 20, S. 326.
15. Брехт Б. Мать // Брехт Б. Театр. Т. I. М., 1963. С. 432–433
16. Там же. С. 423.
17. Там же. С. 412–413.
18. Как обычно, Брехт заимствует здесь идею из ранней песни Буша, «Баллады о милосердии», сочиненной Эйслером в 1930 году на слова Курта Тухольского: «Gut, das ist der Pfennig, und wo ist die Mark?» («Ладно, это — пфенниг, но где же марка?»).
19. Там же. С. 413.
20.
4. Ленин как слушатель Шуберта
Антикоммунистические критики, настаивающие на неразрывной связи между Лениным и сталинизмом, любят рассуждать о приписываемой Ленину нечувствительности к универсальной стороне человека: мало того что он воспринимал все социальные события сквозь призму классовой борьбы, «нас против них»; как человек он был ко всему прочему равнодушным к человеческим страданиям конкретных индивидов. Излюбленный пример этого — известная паранойяльная реакция Ленина на прослушивание «Аппассионаты» Бетховена (сначала он кричал, потом заявлял, что революционер не может позволить себе быть таким сентиментальным, поскольку так он становится слишком мягким, у него возникает желание обнять врагов, вместо того чтобы беспощадно с ними бороться), истолковываемая в качестве доказательства его холодного самообладания и бездушия. Однако даже если взять этот случай в том виде, как он описывается, на самом ли деле он служит доводом против Ленина? Не свидетельствует ли он об исключительной чувствительности к музыке, которая должна была контролироваться для того, чтобы можно было продолжать политическую борьбу? Кто из сегодняшних циничных политиков может похвастаться даже призрачным напоминанием о такой чувствительности? Разве Ленин не выступает здесь в качестве полной противоположности высокопоставленным нацистам, с легкостью сочетавшим такую чувствительность с необычайной жестокостью при принятии политических решений (достаточно вспомнить Гейдриха, архитектора Холокоста, который после трудного рабочего дня всегда находил время, чтобы вместе со своими товарищами исполнить струнные квартеты Бетховена)? Не является ли доказательством человечности Ленина то, что в отличие от этого высочайшего варварства, заключающегося в совершенно беспроблемном сочетании высокой культуры и политического вандализма, он по-прежнему оставался необычайно чувствительным по отношению к непреодолимому антагонизму искусства и борьбы за власть?