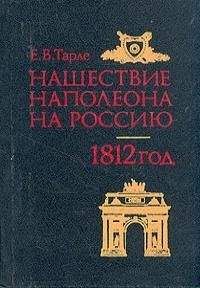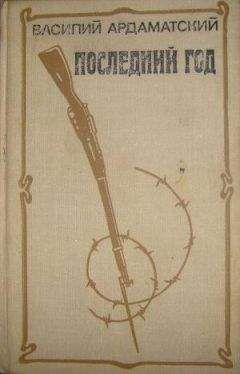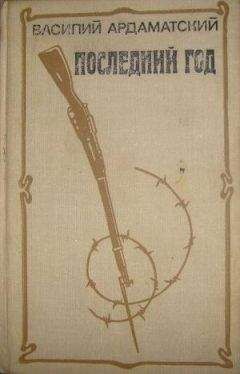Евгений Тарле - Северная война и шведское нашествие на Россию
И все эти большие военные и государственные преимущества и средства, и нечасто встречающиеся личные качества — все это кончилось после долгих блестящих удач полным провалом, гибелью армии, тяжелым, непоправимым подрывом политической мощи Швеции, а для него, гордого, безмерно славолюбивого и жившего только для славы (герцог Мальборо совершенно правильно это уловил после личного знакомства и наблюдений), для него, которого еще накануне Полтавы льстиво называли в Западной Европе в стихах и прозе новым Александром Македонским, это кончилось таким мучительным, неизбывным стыдом, который заставлял его явно искать смерти. "Лучше пусть меня называют сумасшедшим, чем трусом", — заявил он после своей бендерской авантюры. Его грызло это неутолимое чувство безнадежного краха всей его жизни и деятельности, всей репутации. Он молчал, как всегда, не оправдывался и не жаловался, и только один раз, как увидим, написал о пережитой трагедии своей любимой сестре, но окружавшие и наблюдавшие его в последние годы его короткой жизни хорошо понимали, что в нем творилось в то время, пока, наконец, 1 декабря 1718 г., в темную норвежскую ночь, в холодной траншее не нашла его шальная пуля-избавительница.
Отчасти эти характерные черты личности шведского короля, блеск его победоносной завоевательной карьеры — все это привлекало к нему с давних пор воображение и симпатию шведских буржуазных историков, а иногда и писателей, ученых, публицистов, поэтов других национальностей. Но прежде всего он был и остался подходящей исторической фигурой для идеализации самой идеи захватнической агрессивной политики, направленной против России. В этом именно, а не в романтических и поэтических увлечениях слишком эмоциональных авторов коренится причина восторгов перед личностью Карла XII. Многими забывались те особенности Карла XII, которые в сущности в конечном счете сделали деятельность его, так называемого "национального героя", поистине национальной катастрофой для Швеции. Отсутствие чего бы то ни было похожего на чувство ответственности, беспечная трата человеческих жизней, постановка перед собой несбыточных грандиозных целей и непостижимое упрямство в погоне за достижением их, не знающая пределов самонадеянность, полнейшее (с грустью признаваемое самыми пылкими его хвалителями) неумение разбираться в сложных вопросах внешней политики — все это так бросалось в глаза, что подрывало у всех сколько-нибудь беспристрастных наблюдателей и исследователей первоначальный импонирующий эффект, который иной раз производила личность этого совсем незаурядного, необычайного человека.
Дурные стороны его характера сказались особенно губительно для его страны вследствие ничем не ограниченной власти, которой он обладал, начиная с 15-летнего возраста. Недаром воспоминания Левенгаупта, хорошо знавшего короля, появились в печати уже после смерти злосчастного генерала под многозначительным длинным названием: "Вредные последствия самодержавия и горькие плоды злости (Enwaldets skadeliga pafolgder och aggets bittra frugter)".
Несправедливо обиженный (и погубленный) Карлом XII человек или тот, кто готовил к печати эти отрывочные показания, выразил в этих словах и добытую дорогим опытом истину о вреде самодержавной власти, и возмущение злобными наветами и прямой клеветой Карла. Левенгаупту уже не суждено было вернуться из русского плена на родину. В этом длинном названии его набросков — посмертное проклятие необузданному произволу Карла XII.
Даже присяжные хвалители Карла XII признают "трагической ошибкой", например, ожидание помощи от Станислава Лещинского во время похода на Россию. Но такими "трагическими ошибками" была полна политическая карьера шведского короля. Он ничего не понимал в истории, в социальном строе, в государственном и экономическом состоянии тех стран, с которыми ему приходилось иметь дело. Так как запуганный варшавский сейм признал по его приказу польским королем шляхтича Станислава Лещинского, то ему представилось, что отныне Польша будет повиноваться этому марионеточному монарху так, как Швеция повинуется ему, Карлу XII. Точно так же ему представлялось перед Полтавой, что когда он войдет в Москву, то просто сгонит Петра с русского престола с такой же легкостью, как он согнал с польского престола Августа II, и даст русским нового правителя по своему вкусу, кого-нибудь вроде Станислава Лещинского.
Полтавский ужас, позор капитуляции все еще уцелевшей части армии под Переволочной и явно безнадежная потеря Прибалтики и Финляндии ничуть не образумили Карла. О таких людях русский народ говорит: "каков в колыбельку, таков и в могилку". После диковинной "войны с турками" в Бендерах Карла в Европе уже перестали величать Александром Македонским и начали чаще называть Дон-Кихотом. В большей или меньшей степени его основные политические расчеты запечатлены были почти всегда той смесью сумасбродства и слепой веры в свои силы, в свою правоту и в неизменность своего счастья и конечного успеха, которые характерны для психологии Дон-Кихота. Несчастьем для поддерживавших захватническую политику Карла социальных слоев было, между прочим, и то, что на этот раз самодержавным властелином оказался в Швеции не Дон-Кихот, а человек, одаренный и всепоглощающей страстью к войне, и бесспорным, хоть и изменившим ему к концу, умением ее вести, и личной неустрашимостью, получивший в наследство превосходно обученную, искусную, строго дисциплинированную армию, которая к тому же после первых блестящих успехов поверила в непобедимость своего так долго удачливого вождя.
В течение всей жизни Карла XII его губительные политические ошибки подрезали, так сказать, на корню все, на что он возлагал свои надежды и расчеты.
7
Постараемся в самых кратких словах напомнить, что представляло собой шведское войско в те годы, когда ему пришлось вести это кровавое долгое единоборство с армией, постепенно создававшейся Петром, Меншиковым, Корчминым, Шереметевым, Репниным и другими.
Шведская армия еще с конца XVI в. считалась одной из лучших, а со второй четверти XVII в. — самой лучшей из всех армий Европы, и эта репутация была упрочена блестящими победами Густава Адольфа в годы Тридцатилетней войны и далее. Прежде всего шведской центральной власти удалось раньше Франции, раньше Габсбургской державы, раньше Испании, не говоря уже о Польше, превратить конгломерат феодальных ополчений и взятых со стороны наемников в войско, в самом деле отвечающее потребностям успешной военной борьбы в новых условиях абсолютистского периода, времени объединенных вполне или заканчивающих свое объединение «национальных» государств. Даже во Франции в период от смерти Франциска I до начала правления Людовика XIV армия сохраняла следы своего позднесредневекового происхождения, когда она сложилась, — и не только при так называемых "религиозных войнах" второй половины XVI в., но и Генриху IV, и Ришелье, и Мазарини приходилось с этими пережитками очень считаться. Империя Габсбургов и до и во время Тридцатилетней войны не могла избавиться от дробления вооруженных сил, от зависимости и часто бессилия перед лицом могущественных феодалов и смелых кондотьеров особого, специфического типа, вроде Валленштейна. В Швеции армия иного типа, соответствующая более новой социально-экономической формации общества, показала себя во всем блеске в годы Тридцатилетней войны, когда она разгуливала по государствам Средней и Северной Германии, гоня перед собой врагов, и когда перед Густавом Адольфом трепетали Австрия, Бавария, Венгрия, Польша, а его дружбы искали Франция, Голландия, Дания. Строгая дисциплина и неустанная военная выучка отличали шведское воинство, а богатейшая руда и высокоразвитая металлургия снабжали шведов превосходным оружием. Стойкость, выдержка, храбрость в бою, уменье безропотно переносить все невзгоды, трудности и опасности долгих, годами длившихся походов — все это в течение всего XVII в. поражало и пугало современников, которым приходилось приглядываться к шведским военным силам. Со времен того же Густава Адольфа в традициях шведской армии была известная, охотно демонстрируемая и офицерством и рядовыми протестантская религиозность или, вернее, аффектация религиозности. У них это не переходило, как нередко у английских пуритан, у солдат Кромвеля, Фэрфакса и Брэдшо, в фанатическую нетерпимость и агрессивное ханжество, но во всяком случае эта черта еще более скрепляла в войске корпоративный дух и дисциплину.
В разгульные, кровавые, анархические времена Тридцатилетней войны на фоне неистовства и погромов одичавшей солдатчины, бродившей по Центральной Европе под разными знаменами, но одушевленной одинаково грабительскими целями, шведы славились некогда своим терпимым и сравнительно не жестоким поведением относительно мирного невооруженного населения. Замечу, однако, что во времена Карла XII шведская армия в этом отношении сильно изменилась. Еще в Саксонии, протестантской стране, размещенные компактно, в двух-трех городах, под наблюдением короля и генералов, шведы вели себя сравнительно более сдержанно, да и то далеко не все полки и не всегда, но в Польше — уже значительно хуже, а в Белоруссии и Украине еще более разнузданно и нетерпимо. Этому способствовало и то основанное на легкомыслии, грубости чувства, эгоистической бессердечности, невежестве и самонадеянности пренебрежение к восточному врагу, которое навсегда усвоил себе Карл XII и которое, распространяясь от королевского штаба после первой Нарвы, проникло в низы шведской армии. Солдаты Карла XII свирепствовали на Украине так, как никогда и не подумали бы делать, например, в Саксонии или в Дании, хотя и вообще былых "благочестивых евангелических воинов" Густава Адольфа солдаты Карла XII уже мало напоминали.