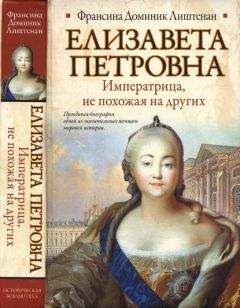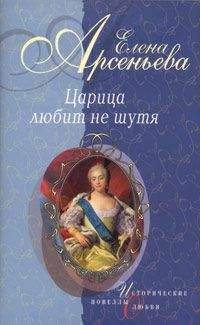Франсина-Доминик Лиштенан - Россия входит в Европу: Императрица Елизавета Петровна и война за Австрийское наследство, 1740-1750
Елизавета — посредница или третейский судья, разрешающий спор между народами Европы
Вопрос о отправке в Западную Европу «российского подкрепления» обсуждался с начала 1745 года. Елизавета реагировала уклончиво и выставила условие, впрочем весьма обнадеживающее: при необходимости она выступит в поддержку Ганновера и Саксонии, но откажет в помощи Марии-Терезии — императрице-сопернице. Получалось, что российская государыня по-прежнему еще не решила, кому окажет военную поддержку, и у обоих королей, французского и прусского, еще теплилась надежда склонить ее на свою сторону. Бурбон и Гогенцоллерн сознавали, что за это им придется заплатить дорогой ценой — признать за дочерью Петра Великого, которую они оба презирали, право быть посредницей в делах Европы (роль славная и, с точки зрения обоих королей, Елизаветой вовсе не заслуженная). Идея эта родилась в ходе переписки между королями и их представителями в Петербурге, но было понятно, что из тактических соображений первыми о посреднической миссии России должны заговорить французы. И Ле Шамбрье, и Фридрих, совершенно восхищенный открывающимися перспективами, хорошо представляли себе дальнейший ход действий: следует «полностью покорить сей [русский] двор», а затем «длительное время содержать оный в бездействии, дабы […] помешать ему взять сторону противников наших»{86}. С этой целью его христианнейшее величество Людовик XV признал — не без колебаний — за дочерью Петра Великого императорский титул; Фридрих продолжал толковать ей о славной миссии «всеобщего примирения» и уверять ее, что из всех европейских монархов она, Елизавета, «для него союзница наидрагоценнейшая»{87}. Весна и лето 1745 года прошли в попытках пленить российскую государыню; оба короля заклинали своих посланников, Дальона и Мардефельда, не отступать от намеченного, действовать «сообща и на основании одних и тех же принципов» и делиться друг с другом любой информацией, какой бы незначительной она ни казалась{88}. Прежде всего, в их обязанности входило объяснить миролюбивой Елизавете, на каких основаниях Фридрих ввел войска в Моравию и Богемию; оба посланника, каждый в свой черед, поспешили уверить императрицу, что сделано это было исключительно ради поддержания в Германии спокойствия и порядка. Елизавета слушала спокойно, но своего мнения не высказывала; не терявший бдительности Бестужев умело внушал ей недоверие к рассказам пруссака и француза.
Тем временем и в Потсдаме, и в Париже начали смотреть на положение дел новыми глазами. С точки зрения Людовика, главным нарушителем европейского спокойствия оставалась Англия; поддерживая притязания Марии-Терезии, Георг II лишь сильнее разжигал пламя конфликтов{89}. Фридрих разделял эту точку зрения постольку, поскольку Георг, курфюрст Ганноверский, препятствовал его захватническим планам. Оба короля, и Людовик, и Фридрих, сознавали, что Лондон имеет влияние на Петербург, но не умели ни понять причины этого влияния, ни оценить его масштабы. Людовик XV продолжал воздействовать на Елизавету обольстительными речами; он написал ей патетическое послание, в котором уверял, что взялся за оружие с одной-единственной целью — восстановить мир в Европе. Русской императрице, которая, благодаря своему нейтралитету, идеально подходила на роль посредницы между воюющими державами, предоставлялось сделать выводы самостоятельно. Письмо его христианнейшего величества, уснащенное лестными обращениями[32], выдавало владевшее им отчаяние и страстную жажду помощи:
«Всякий монарх в пределах своих владений лишь к тому стремиться может, чтобы собственных своих подданных осчастливить, Вам же дано составить счастье королей и народов. От того, Государыня, подданные Ваши лишь сильнее любить Вас и почитать станут, наше же царствование сделается лишь более счастливым, когда благословения, кои возносят обитатели Вашей державы, в единый сольются хор с благословениями народов европейских»{90}.
Иначе говоря, судьба Бурбонов зависела от решений монархини из дома Романовых, которую Людовик XV некогда не пожелал взять в жены! Король изъяснялся с фонтенелевской напыщенностью: человечество наградит молодую государыню, дочь Петра Великого, повелительницу народа, извлеченного из небытия стараниями ее венчанного родителя, титулом третейского судьи, которому доверено разрешить спор между народами Европы, — «благороднейшим из титулов, какие могут принадлежать коронованной особе, и единственным, коего недостает Вашему славному Величеству»{91}. Эти обольстительные — но совершенно неофициальные — речи плохо вязались и с ходом военных действий, и с политикой французского кабинета, благоприятствовавшей скандинавским странам и Турции. Петербург всегда возражал против вмешательства французов в восточные дела и настороженно следил за их политикой на севере. Вместо ответа представитель императрицы в Париже подверг критике избранную Людовиком терминологию: сделавшись «третейским судьей», Россия неминуемо должна будет поощрить одну из сторон в ущерб другой и утратит свою независимость. Русский посланник высказался в том духе, что его страна предпочитает не принимать активного участия в европейских войнах, а на просьбу Людовика не ответил вовсе ничего{92}. Сама же Елизавета хранила молчание. Прусский король, первым получавший информацию о развитии событий, встревожился еще сильнее, чем прежде. Он твердо знал, что вмешательство России в германские дела — его последний шанс и без этого ему нечего надеяться закрепить за собой захваченные территории и незамедлительно заключить мир, необходимый его измученной армии. Мардефельд выбивался из сил, Дальон утверждал, что «проповедует то же, что и прежде», однако двум дипломатам становилось все труднее говорить в унисон; первого интересовала Германия, а второго — Европа. Русские быстро поняли, что эти два интереса могут вступить в противоречие. Несмотря на всю блистательную диалектику Мардефельда и Дальона, на примере их взаимоотношений русские политики без труда могли догадаться о том, что согласие между Парижем и Берлином — вещь хрупкая и недолговечная.
Французы с осени 1745 года со страхом ожидали крутого поворота в политике Фридриха. Д'Аржансон колебался, не зная, стоит ли предпочесть дружбе с Саксонией ненадежный союз с Пруссией; Людовик пытался успокоить Россию и вел себя крайне предупредительно со всеми монархами. Впрочем, без всякого успеха. Король-философ, забыв о том, что еще совсем недавно избрал Людовика XV главным своим союзником, жаловался Мардефельду на то, что французы им пренебрегают, что они превыше всего ставят собственные интересы и вот-вот предадут немецких друзей{93}. Тем временем Людовик обдумывал, пока еще никому об этом не объявляя, план новой коалиции, в которую входили бы его страна, Пруссия, Швеция и Россия и которая стремилась бы «защищать слабых от угнетения, тирании и насилия со стороны держав, злоупотребляющих своею мощью»{94}. Иначе говоря, защищать права народов предлагалось не кому иному, как России и Пруссии. Одна из статей договора, впрочем, предусматривала в случае необходимости замену России на Порту, ее исконного врага. Фридрих вполне мог бы присоединиться к плану Людовика, но он предпочел действовать по собственной прихоти, путать карты потенциальным союзникам, приносить дружественную Францию в жертву своим заклятым врагам Австрии и Саксонии. Политика Фридриха отличалась непредсказуемостью: в зависимости от настроения он то уважал чувства своего французского собрата, то оскорблял их; Людовик же, разрывавшийся между официальной и «тайной» дипломатией (так называемым «секретом короля»), слишком открыто распределял роли между монархами и разрабатывал слишком «материалистические» проекты коалиций… Фридрих использовал (или думал, что использует) Петербург и Париж для подчинения себе всей Германии, Людовик же, со своей стороны, рассчитывал с помощью Берлина и Петербурга сохранить свое господство в Центральной Европе и на берегах Балтийского моря (расчет ничуть не менее умозрительный). Предложение Версаля о создании четверного союза (Франция, Пруссия, Швеция и Россия) звучало как своеобразное пари; с точки зрения Дальона, наблюдавшего за происходящим из Петербурга, выиграть это пари было еще возможно; Елизавета могла бы согласиться на союз с Пруссией, если бы Фридрих вел себя правильно, но могла бы и вступить в коалицию с Саксонией, если бы Людовик устранился от решения германского вопроса{95}. Выжидательная тактика французского кабинета и явная непоследовательность французов в решении немецких проблем превращали его христианнейшее величество в сообщника экспансионистской политики Бранденбургского дома.