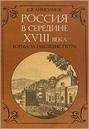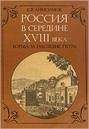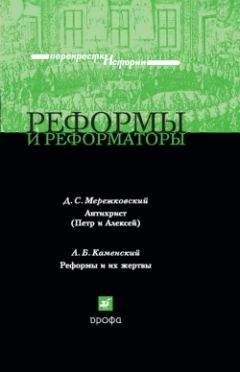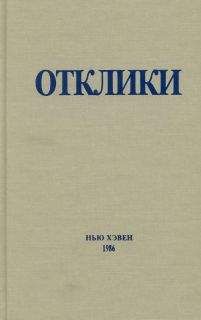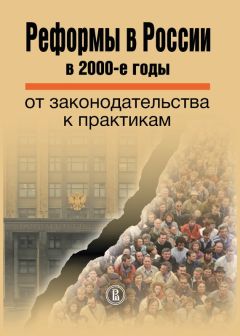Евгений Анисимов - Петр Великий: личность и реформы
Важно при этом заметить, что в соответствии с принципами харизмы титул «Отца Отечества» был привилегией только Петра, не являясь обязательным атрибутом российских императоров. И хотя впоследствии преемники первого императора восхвалялись за несуществующие личные достоинства и «щедроты» к российскому народу, официально они его не имели. Правда, уподобляясь своему великому отцу, Елизавета называлась «Матерью Отечествия», но никаких возвышающих душу образов и сравнений у современников ее это не вызывало.
Реформы, тяжелый труд в мирное и военное время воспринимались Петром как постоянная учеба, школа, в которой русский народ постигал знания, неведомые ему ранее. В манифесте 1702 года, которым иностранные специалисты приглашались приехать в Россию, отмечалось, что одна из важнейших задач самодержавия – «к вящему обучению народа доходить тако учредити, дабы наши подданные коль долее, толь веще ко всякому обществу и обходительству со всеми иными христианскими и во нравех обученными народы удобны сочинены быть могли».
Северная война тоже устойчиво связывалась с понятием учения. Получив известие о заключении Ништадтского мира, Петр воспринял это событие как получение аттестата об окончании (правда, с опозданием) своеобразной школы. В письме В. В. Долгорукому по поводу заключения мира он пишет: «Все ученики науки в семь лет оканчивают обыкновенно, но наша школа троекратное время была (21 год), однакож, слава богу, так хорошо окончилась, как лучше быть невозможно». Известно и его выражение «Аз есмь в чину учимых и учащих мя требую». Действительно, концепция жизни – учебы, обучения – типична для рационалистического восприятия мира, типична она и для Петра, человека необычайно любознательного, активного и способного. Но в школе, в которую он превратил страну, место Учителя, знающего, что нужно ученикам, он отводил себе. В обстановке бурных преобразований, когда цели их, кроме самых общих, не были отчетливо видны и понятны всем и встречали открытое, а чаще скрытое сопротивление, в сознании Петра укреплялась идея разумного Учителя, с которым он идентифицировал себя, и неразумных, часто упорствующих в своей косности и лени детей-подданных, которых можно приучить к учению и добрым делам только с помощью насилия, из-под палки, ибо другого они не понимают. Об этом Петр говорил не раз. Отвечая голштинскому герцогу, восхищавшемуся токарными «работами» Петра, царь, по словам Берхгольца, «уверял, что кабинетные его занятия – игрушка по сравнению с трудами, понесенными им в первые годы при введении регулярного войска и особенно при заведении флота, что тогда он должен был разом знакомить своих подданных, которые, по его словам, прежде предавались, как известно, праздности, и с наукою, и с храбростью, и с верностью, и с честью, очень мало им знакомою».
Еще более откровенно Петр выразил свои мысли в указе Мануфактур-коллегии 5 ноября 1723 года по поводу трудностей в распространении мануфактурного производства в стране: «Что мало охотников и то правда, понеже наш народ, яко дети неучения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывают, которым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят, что явно из всех нынешних дел не все ль неволею сделано, и уже за многое благодарение слышится, от чего уже плод произошел».
Мысль о насилии, принуждении как универсальном способе решения внутренних проблем не нова в истории России. Но Петр, пожалуй, первый, кто с такой последовательностью, систематичностью использовал насилие для достижения высших государственных целей, как он их понимал.
Среди новелл, составляющих воспоминания Андрея Нартова, есть одна, привлекающая особое внимание. Нартов передает целостную концепцию власти самодержца, как ее понимал царь (естественно – в передаче Нартова): «Петр Великий, беседуя в токарной с Брюсом и Остерманом, с жаром говорил им: „Говорят чужестранцы, что я повелеваю рабами, как невольниками. Я повелеваю подданными, повинующимися моим указам. Сии указы содержат в себе добро, а не вред государству. Английская вольность здесь не у места, как к стене горох.
Надлежит знать народ, как оным управлять. Усматривающий вред и придумывающий добро говорить может прямо мне без боязни. Свидетели тому – вы. Полезное слушать рад я и от последняго подданнаго; руки, ноги, язык не скованы. Доступ до меня свободен – лишь бы не отягощали меня только бездельством и не отнимали бы времени напрасно, которого всякий час мне дорог. Недоброходы и злодеи мои и отечеству не могут быть довольны; узда им – закон. Тот свободен, кто не творит зла и послушен добру“».
Хотя «Анекдоты» Нартова содержат много недостоверного, но этот заслуживает доверия, ибо подтверждается другими документами и отражает умонастроение Петра. Идея патернализма определяет все: он, Петр, единственный, кто знает, что нужно народу, и его указы, как содержащие лишь безусловное добро, обязательны к исполнению всеми подданными. Недовольные законами, изданными царем, – «злодеи мои и отечеству». Примечательно и убеждение царя, что в России, в отличие от Англии, такой насильственный путь приведения страны к добру – единственный. Причем этот гимн режиму единовластия (а в сущности – завуалированной тирании, при которой закон имеет единственным источником волю властителя) обосновывается все теми же перечисленными выше обязанностями монарха, призванного Богом к власти, а значит, имеющего право повелевать и знающего, в силу Божественной воли, что есть благо.
Как записал в свой дневник Берхгольц, его повелитель, герцог Карл-Фридрих, решил угодить Петру в дни торжеств по поводу Ништадтского мира и построил триумфальную арку, украсив ее с правой стороны изображением «Ивана Васильевича I (Ивана IV. – Е. А.) в старинной короне, положившего основание нынешнему величию России, с надписью „Incepit“ (начал). С левой же стороны, в такую же величину и в новой императорской короне изображен был теперешний император, возведший Россию на верх славы, с надписью „Perfecit“ (усовершенствовал)». Другой придворный голштинского герцога, граф Брюммер (будущий воспитатель Петра III), рассказывал Штеллину о весьма положительной реакции царя на эту аналогию и историческую связь. Петр якобы сказал: «Этот государь (указав на царя Ивана Васильевича) – мой предшественник и пример. Я всегда принимал его за образец в благоразумии и храбрости, но не мог еще с ним сравняться. Только глупцы, которые не знают обстоятельства в его времени, свойства его народа и великих его заслуг, называют его тираном». Думаю, что вряд ли мемуаристы далеко уклоняются от истины, касаясь политических симпатий царя. Они очевидны и вытекают из его философии власти. То соображение, что Петр мало знал о своем предшественнике – Иване Грозном – и потому восхищался им, значения в данном случае не имеет: ведь нам известно, что глубокие знания о кровавой тирании Ивана, накопленные поколениями историков, не смогли тем не менее поколебать устойчивых политических симпатий к средневековому тирану Сталину – этому «душегубцу и мужикоборцу» новейших времен.
Концепция принуждения основывалась не только на вполне традиционной идее патернализма, но, вероятно, и на особенностях личности Петра. В его отношении к людям было много того, что можно назвать жестокостью, нетерпимостью, душевной глухотой. Человек с его слабостями, проблемами, личностью, индивидуальностью как бы не существовал для него. Создается впечатление, что на людей он часто смотрел как на орудия, материал для создания того, что было им задумано для блага государства, империи. Думаю, что Петру должны были быть близки мысли Ивана Грозного, корившего Курбского и ему подобных за непослушание на том основании, что Бог подданных ему «дал в роб Ђоту». Конечно, следует отметить, что для Ивана понятие «робота» идентично понятию «рабство», а «работные», все без изъятия, – отданные в рабство подданные. Но вместе с тем в отношении Петра и Ивана к подданным было много общего. Довольно странная шутка и сомнительная аллегория встречаются в письме царя из-под Шлиссельбурга от 19 апреля 1703 года Т. Н. Стрешневу, ведавшему набором солдат в армию: «Как ваша милость сие получишь, изволь не помедля еще солдат сверх кои отпущены, тысячи три или больше прислать в добавку, понеже при сей школе много учеников умирает, того для не добро голову чесать, когда зубы выломаны из гребня».
Очень выразительным кажется и письмо в Петрозаводск по поводу болезни личного врача Петра доктора Арескина, который многие годы входил в ближайшее окружение царя. 2 декабря 1718 года Петр писал В. Геннину – местному начальнику: «Господин полковник. Письмо твое ноября от 25-го дня до нас дошло, в котором пишешь, что доктор Арескин уже кончаеца, о котором мы зело сожалеем, и ежели (о чем боже сохрани) жизнь ево уже прекратилась, то объяви доктору Поликалу, дабы ево распорол и осмотрил внутренне члены, какою он болезнию был болен и не дано ль ему какой отравы. И осмотря, к нам пишите. А потом и тело ево отправьте сюды, в Санкт-Питербурх. Петр». Поразительная предусмотрительность царя обусловлена тем, что он заподозрил отравление Арескина, сторонника Якова Стюарта – претендента на английский престол, склонявшего Петра поддержать «якобитов». Вполне допустимо, что Петр подумал о заговоре, в чем-то угрожавшем ему. Но в данном случае наше внимание обращает на себя холодный прагматизм, жутковатая деловитость в отношении достаточно близкого ему человека. С такой же деловитостью в 1709 году он поучал Апраксина, как допрашивать больного государственного преступника: «О протопопе Троицком извольте учинить по своему рассмотрению. Ежели будет вам время, то извольте ево взять к Москве и, хотя за болезнию ево пытать нельзя, однакож выпытывать возможно и не поднимаючи, а имянно, чтоб бить, разложа плетьми или батогами и при том спрашивать». Было бы неверно думать о некоей патологии царя – Петр не проявлял палаческих склонностей. Он жил в жестокий век, дети которого бежали, как на праздник, к эшафоту, и войска с трудом сдерживали толпу, стремившуюся поближе насладиться зрелищем мучительной казни очередного преступника. Да, век был суров, но, как справедливо сказал поэт А. Кушнер, «что ни век, то век железный», и нельзя не заметить, что в отношении Петра к людям многое шло от самой личности, от свойств души этого сурового, жестокого и бесцеремонного к окружающим человека. Мемуаристы отмечают, как, например, сидя рядом с бургомистром вольного города Гданьска на торжественном богослужении, данном в честь высокого гостя в центральном соборе, Петр вдруг содрал с головы бургомистра парик и нахлобучил его на свою голову. После окончания службы он с благодарностью вернул парик ошеломленному хозяину. Все было предельно просто: оказывается, во время мессы царю стало холодно от гулявших по собору сквозняков. И он сделал то же, что не раз проделывал со своими спутниками и слугами.