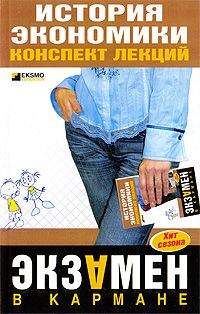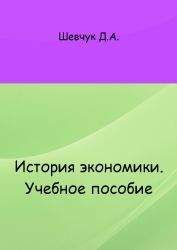Марк Твен - Правдивая история, записанная слово в слово, как я ее слышал

Обзор книги Марк Твен - Правдивая история, записанная слово в слово, как я ее слышал
Твен Марк
Правдивая история, записанная слово в слово, как я ее слышал
Твен Марк
Правдивая история,
записанная слово в слово,
как я ее слышал
Был летний вечер. Сумерки. Мы сидели на веранде дома, стоявшего на вершине холма, а тетка Рэчел почтительно присела пониже, на ступеньках, как подобает служанке, да притом еще цветной. Она была высокого роста и крепкого сложения; и хотя ей перевалило уже за шестьдесят, глаза ее еще не померкли и силы ей не изменили. Нрав у нее был веселый и добродушный, и смеяться ей было так же легко, как птице петь. Теперь она, как обычно по вечерам, оказалась под огнем - иными словами, под градом наших шуток, что доставляло ей огромное удовольствие. Она покатывалась со смеху, закрывала лицо руками и тряслась и задыхалась в припадке веселья. В одну из таких минут я посмотрел на нее и сказал:
- Тетка Рэчел, как это ты ухитрилась прожить на свете шестьдесят лет и ни разу не испытать горя?
Она замерла. Наступила тишина. Потом она повернула голову и, глядя на меня через плечо, сказала без тени улыбки:
- Мисту Клеменс, вы не шутите?
Я удивился и тоже перестал смеяться. Я сказал:
- Ну да, я думал... я полагал... что у тебя никогда не бывало горя. Я ни разу не слышал, чтобы ты вздыхала. Твои глаза всегда смеются.
Она повернулась ко мне, полная волнения:
- Знала ли я горе? Мисту Клеменс, я вам расскажу, а вы судите сами. Я родилась среди рабов; я знаю, что такое рабство, потому что сама была рабыней. Ну вот, мой старик - муж мой - любил меня и был ласков со мной, точь-в-точь как вы ласковы с вашей женой. И были у нас дети - семеро деток, - и мы любили их, точь-в-точь как вы любите ваших деток. Они были черные, но бог не может сделать детей такими черными, чтобы мать не любила их и согласилась расстаться с ними, - нет, ни за что, даже за все богатства мира.
Ну вот, я росла в Виргинии, а моя мать росла в Мэриленде; и как же она гордилась тем, что родилась в таком аристократическом месте! Было у ней одно любимое присловье. Выпрямится, бывало, подбоченится и скажет: "Что я, в хлеву родилась, чтоб всякая дрянь надо мной смеялась? Я из тех цыплят, что от Старой Синей Наседки - вот кто я такая!" Это они себя так величают - те, которые родились в Мэриленде, - и гордятся этим. Да, это было ее любимое присловье. Я никогда его не забуду, потому что она часто повторяла его и сказала в тот день, когда мой Генри ободрал руку и чуть не проломил себе голову, а негры не поспешили помочь ему. Да еще сказали ей что-то поперек. А она подбоченилась и говорит: "Слушайте, негры, разве я в хлеву родилась, чтоб всякая дрянь надо мной издевалась? Я из тех цыплят, что от Старой Синей Наседки, - вот кто я такая!" - и унесла ребенка на кухню и сама сделала перевязку. Я тоже повторяю это присловье, когда сержусь.
Ну вот, как-то раз говорит моя старая мисси: я, мол, разорилась и продаю всех своих негров. Как услыхала я, что она повезет всех нас в Ричмонд на аукцион, я - господи боже ты мой! - я сразу поняла, чем это пахнет.
Одушевляясь рассказом, тетка Рэчел поднималась все выше и теперь стояла перед нами во весь рост - черный силуэт на звездном небе.
- Нас заковали в цепи и поставили на высокий помост - вот как эта веранда, - двадцать футов высотой; и народ толпился кругом. Много народу толпилось. Они подходили к нам, и осматривали нас, и щупали нам руки, и заставляли нас вставать и ходить, и говорили: "Этот слишком старый", или: "Этот слабоват", или: "Этому грош цена". И продали моего старика и увели его, а потом стали продавать моих детей и уводить их, а я давай плакать; а мужчина и говорит мне: "Замолчишь ты, проклятая плакса?!" - и ткнул мне в зубы кулаком. А когда увели всех, кроме маленького Генри, я схватила его, прижала к груди и говорю: "Вы, говорю, не уведете его, я, говорю, убью всякого, кто притронется к нему". Но Генри прижался ко мне и шепчет: "Я убегу и буду работать - и выкуплю тебя на волю". О, милый мой мальчик, он всегда был такой добрый! Но они увели его... они увели его, эти люди, а я билась, и рвала на них одежду, и колотила их своими цепями; и они меня колотили, но я уже и не чувствовала побоев.
Да так и увели моего старика и всех моих деток - всех семерых, - и шестерых я с тех пор не видала больше; и исполнилось этому двадцать два года на пасху. Тот человек, который купил меня, был из Ньюберна и увез меня туда. Ну вот, время шло да шло, и началась война. Мой хозяин был полковник Южной армии, а я у него в доме была кухаркой. Когда войска северян взяли город, южане убежали и оставили меня с другими неграми в огромном доме совсем одних. Заняли его северные офицеры и спрашивают меня - согласна ли я для них стряпать. "Господь с вами, говорю, а для чего же я здесь?"
Они были не какие-нибудь - важные были офицеры! А уж как гоняли своих солдат! Генерал велел мне распоряжаться на кухне и сказал: "Если кто вздумает к вам приставать, гоните его без разговоров; не бойтесь, говорит, вы теперь среди друзей".
Ну вот, я и думаю: если, думаю, моему Генри удалось бежать, так, наверно, он ушел на Север. И вот как-то раз, когда собрались офицеры, вошла я к ним в гостиную, и вежливо присела, и рассказала им о моем Генри, а они слушали меня все равно как белую. Я и говорю: "А пришла я вот зачем: если он убежал на Север, откуда вы пришли, то, может, вам случилось встретить его, и вы скажете мне, где он теперь и как его найти. Он был очень маленький, у него шрам на левой руке и на лбу". Лица у них стали грустные, а генерал говорит мне: "Давно ли вы с ним расстались?" А я говорю: "Тринадцать лет". Тогда генерал говорит: "Значит, он теперь уже не ребенок, он взрослый человек".
А мне это и в голову не приходило раньше. Для меня-то он все был маленький мальчуган; я и не думала, что он вырос и стал большой. Но тут я все поняла. Ни один из этих господ не встречался с ним, и они ничего не могли мне сказать о нем. Но все это время мой Генри был в бегах, на Севере, и сделался цирюльником, и зарабатывал деньги, только я ничего этого не знала. А когда пришла война, он и говорит: "Полно мне, говорит, цирюльничать, попробую отыскать мою старуху мать, если она еще жива". Продал он свою цирюльню, нанялся в услужение к полковнику и пошел на войну; всюду побывал - все искал свою старуху мать, нанимался то к одному офицеру, то к другому: весь Юг, мол, обойду. А я-то ничего не знала. Да и как мне было знать?
Ну вот, как-то вечером у нас был большой солдатский бал; солдаты в Ньюберне всегда задавали балы, и сколько раз устраивали их в моей кухне, просторная была кухня. Мне это, понимаете, не очень-то нравилось: я служила у офицеров, и мне было досадно, что простые солдаты выплясывают у меня на кухне. Ну да я с ними не церемонилась, и если, бывало, рассердят меня, живо выпроваживала вон из кухни.
Как-то вечером, было это в пятницу, явился целый взвод солдат черного полка, карауливших дом, - в доме-то был главный штаб, понимаете? - и тут-то у меня желчь расходилась! Страсть! Такое зло разобрало! Чувствую, так меня и подмывает, так и подмывает - и только и жду, чтоб они меня раззадорили чем-нибудь. А они-то танцуют, они-то выплясывают! Просто дым коромыслом! А меня так и подмывает, так и подмывает! Немного погодя приходит нарядный молодой негр с какой-то желтой барышней и давай вертеться, вертеться голова кружится, глядя на них; поравнялись они со мной и давай переступать с ноги на ногу, и покачиваться, и подсмеиваться над моим красным тюрбаном. Я на них и окрысилась: "Пошли прочь, говорю, шваль!" И вдруг у молодого человека лицо разом изменилось, но только на секунду, а потом он опять начал подсмеиваться, как раньше. Тут вошли несколько негров, которые играли музыку в том же полку и всегда важничали. А в ту ночь уж и вовсе разважничались. Я на них цыкнула. Они засмеялись, это меня раззадорило; другие тоже стали хохотать - и я взбеленилась! Глаза мои так и загорелись! Я выпрямилась - вот этак, чуть не до потолка, - подбоченилась да и говорю: "Вот что, говорю, негры, разве я в хлеву родилась, чтобы всякая дрянь надо мной издевалась? Я из тех цыплят, что от Старой Синей Наседки, - вот кто я такая!" И вижу, молодой человек уставился на меня, а потом на потолок - будто забыл что-то и не может вспомнить. Я, значит, наступаю на негров - вот так, как генерал какой; а они пятятся передо мной - и в дверь. И слышу я, молодой человек говорит, уходя, другому негру: "Джим, говорит, сходи-ка ты к капитану и скажи, что я буду в восемь часов утра; у меня, говорит, есть кой-что на уме, и я не буду спать эту ночь. Ты уходи к себе, - говорит, - и не беспокойся обо мне".
А был час ночи. В семь я уже вставала и готовила офицерам завтрак. Я нагнулась над печкой - вот так, пускай ваша нога будет печка, - отворила ее, толкнула дверцу - вот как сейчас толкаю вашу ногу, и только было достала противень с горячими булочками и подняла ее, глядь - какое-то черное лицо просунулось из-под моей руки и заглядывает мне в глаза - вот как теперь на вас гляжу; и тут я остановилась да так и замерла, гляжу, и гляжу, и гляжу, а противень начал дрожать, - и вдруг... я узнала! Противень полетел на пол, схватила я его левую руку и завернула рукав - вот как вам заворачиваю, - а потом откинула назад его волосы - вот так, и говорю: "Если ты не мой Генри, откуда же у тебя этот шрам на руке и этот рубец на лбу? Благодарение господу богу на небесах, я нашла моего ребенка!"