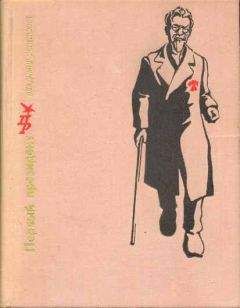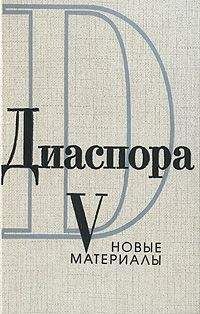Георгий Пахимер - История о Михаиле и Андронике Палеофагах

Обзор книги Георгий Пахимер - История о Михаиле и Андронике Палеофагах
Георгия Пахимера
История о Михаиле и Андронике Палеофагах
ТРИНАДЦАТЬ КНИГ
Том 1
ЦАРСТВОВАНИЕ МИХАИЛА ПАЛЕОЛОГА
1255–1282
ПЕРЕВОД под редакциею профессора Карпова.[1]
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПАХИМЕРЕ И ЕГО ИСТОРИИ
Все, что известно нам о личности Георгия Пахимера, высказано им самим в его истории. Родившись от мирских родителей, Пахимер еще в молодости причислен к клиру и мало-помалу взошел на степень протэкдика, следовательно, занимался делами церковного судопроизводства. Эта среда служебной деятельности необходимо сближала его с должностями гражданскими и придворными, и впоследствии доставила ему почетное имя и значение дикеофилакса. Таким образом Пахимер, по роду своих занятий стоял на точке непрестанных отношений между властями церковными и мирскими, и не мог не быть знаком как с внутренними расположениями византийского патриархата, так и с монархическими стремлениями своего времени. Такое его положение, благоразумно охраняемое уменьем держаться иногда между двух огней, давало ему возможность быть верным наблюдателем, или даже личным свидетелем сокровенных пружин, приводивших в движение дела церкви и империи, следовательно, снабжало его самыми важными условиями для выполнения того, что требуется от историка. И действительно, история Пахимера, если будем смотреть на нее со стороны содержания и духа писателя, есть явление, по тому времени, превосходное, и для составления правильного понятия о тогдашних событиях весьма полезное.
Георгий Пахимер описал царствование Михаила Палеолога и большую часть царствования Андроника Палеолога старшего; так что историческими своими рассказами, если возьмем их в совокупности с повествованиями о событиях, предшествовавших этой династии, обнял период времени около 53 лет, то есть, с 1255 до 1308 года. Все это время византийской жизни было самое тревожное; восточная империя доживала тогда последний период своего существования и находилась как бы в предсмертной агонии. Не говорим о степени внешних, или географических ее пределов, и об отторжении от ней лучших ее городов и областей: это одно — еще не решительный признак распадения государственного тела: говорим о нравственном разъединении сословных интересов, за которым естественно следовало эгоистическое обособление и интересов личных. Во второй половине 13-го и в 14 веке Византийская империя представляется похожею на человека, неистово раздирающего члены собственного своего организма. Не меч и огнь разрушали ее; эти бичи, подобно хищным животным, падали уже на труп мертвеца, убитого внутренним тиранством, домашнею враждою, нравственною язвою. В основании зла, отравлявшего империю, лежала какая-то дикая игра религиозными убеждениями, свободою совести и чувством нравственным. Святые истины веры перешли в мертвую формулу и сделались либо орудием своекорыстия, либо чем-то чуждым, не принадлежащим к жизни, какими-то ненужными для ней правилами. Поэтому между государственными сословиями и отдельными лицами не осталось никакого внутреннего цемента, который разнородные части связывал бы в одно целое духовно; все, что еще не распалось и напоминало о существовании гражданского тела, держалось только связью внешнею, и узел этой связи был исключительно в руках императора. Высшие чины государства, томясь неимоверно развившеюся и ничем неутолимой жаждою роскоши, разоряли области и грабили народ; патриарх и духовенство страдали под гнетом внешней силы и чрез то либо замыкались сами в себя и молчали, либо распадались на партии и зарождали в народе дух сектанства; торговля и промышленность обусловливались монополиею, запутывались продажею привилегий и почти всецело перешли в руки иностранцев; войско почти совершенно потеряло национальный элемент и состояло из наемного скопища разноплеменных варваров, которые, нисколько не сочувствуя пользам империи, жаждали только добычи и больше опустошали византийские области, чем сколько охраняли их. Таково было состояние восточной империи в тот период, который описывается в истории Пахимера. При этой разрозненности интересов и разобщении частей стройного некогда и могущественного государства, трудно было историку сохранить беспристрастие взгляда и не увлечься духом партии: но Пахимер в этом отношении является неукоризненным; истина у него идет впереди всех личных или сословных расчетов, которыми иногда характеризуются рассказы греческих писателей. Как описыватель государственных событий, он поднимается высоко над уровнем народной жизни, и свободный его взгляд на явления ограничивается только сознанием православия и патриотически умеренным чувством византийца тогдашнего времени: говорим — тогдашнего времени; потому что, при глубоком упадке нравственности и ослаблении внутренних связей, упрочивающих благосостояние государства, и самые благородные представители его необходимо усвояют себе хотя отчасти понятия своего века и смотрят на вещи по-своему.
Рассматривая со стороны содержания, история Пахимера отличается многосторонностью своих повествований и следит за жизнью империи едва не по всем ее направлениям, хотя не богата рассказами о подробностях быта народного, о тогдашних мерах воспитания юношества, об образе современного писателю судопроизводства и проч. Но, как лицо, действовавшее на поприще официальных отношений между византийским двором и духовенством, Пахимер своею историею проливает особенно много света на состояние церкви в том периоде восточной империи, который он описывает. С этой стороны на историю его можно смотреть, как на восполнение важнейших пробелов, оставленных другими историками, обозревавшими то же самое время, а еще более, как на поверку и поправку сказаний, переданных некоторыми повествователями под влиянием личных и особенно религиозных интересов. Мы не ошибемся, если скажем, что главною задачею, или как бы канвою истории Пахимера был поднятый Михаилом Палеологом вопрос о соединении двух великих церквей — восточной и западной. Решением этого вопроса определялось тогда отношение императора к патриарху и, обратно; от решения его зависело даже течение государственных дел, волнение граждан и судьба влиятельнейших в империи лиц. Поэтому Михаил Палеолог, обнаружив свое стремление примирить разделившиеся церкви, возложил на историю весьма важную и трудную обязанность — определить достоинство тех деятелей, которые по необходимости должны были принимать участие в решении поднятого вопроса. И вот среда, в которой историки западные враждебно сталкиваются с историками византийскими, и нередко черное называют белым, белое — черным. А чтобы своим сказаниям и доказательствам придать более силы, они с особенным удовольствием в этом случае ссылаются на авторитет византийского же историка Георгия Акрополита, бывшего при дворе Михаила Палеолога великим логофетом, следовательно, знавшего обстоятельно свойства тогдашних дел и деятелей. Но этот авторитет решительно падает при одной, исторически несомненной мысли, что Георгий Акрополит был отступник от православия и впоследствии открыто принял латинство. Точно таковы же и прочие основания, на которых опирается история западных писателей о событиях в недре восточной церкви того периода, который описывается Пахимером. Итак, книги Пахимера можно почитать таким историческим памятником 13 и отчасти 14 веков, которым должно пополняться и исправляться все, что не высказано, или ложно передано западными и даже восточными историками относительно православной церкви и представителей ее в тех веках; хотя нельзя не заметить, что Пахимер, по своим отношениям, а может быть, и по своему характеру, высказывает собственные мнения о религиозных событиях и действовавших тогда лицах без особенной ревности.
История Пахимера, на языке латинских критиков, называется схизматическою, т. е. раскольническою; — едва ли не по этой причине, между прочим, греческий ее текст долго не был издаваем и не появлялся с латинским переводом. По крайней мере Поссин в предисловии к изданию этого текста и перевода счел нужным оговориться, просить извинения и доказывать, что иногда бывает небесполезно пускать в свет и схизматические сочинения. Такая оговорка человека ученого, который, как ученый, должен бы судить о вещах не поверхностно и любить истину незамаскированную, вызывает мысли не отрадные. Но, несомненно, верною причиною, по которой история Пахимера целые века оставалась в рукописях, было свойство языка, каким она написана. При всех хороших качествах этого исторического памятника, рассматриваемого со стороны его содержания и нравственного характера, язык, каким высказался в нем Пахимер, мог испугать опытность и терпение самого настойчивого филолога. Его нельзя назвать ни варварским, ни изысканным, ни затейливым, ни софистически тонким, ни ораторски разукрашенным: это — просто наречие, каким тогда говорили византийцы;— и, однако ж, оно почти на каждой странице книги поставляет читателя в крайнее затруднение. Пахимер писал так, как говорил, или, точнее сказать, — как говорит человек, имеющий в виду только мысль, и желающий, чтобы поняли ее, в каких бы формах речи выражена она ни была, — только бы поняли. Если бы, например, живую устную беседу двух или нескольких лиц посредственного образования могли мы буквально перенести на бумагу, не прибавляя, не убавляя и не изменяя в ней ни одной иоты; то это было бы подобием языка Пахимерова. Как над устным разговором, когда бы мы стали наблюдать только сочетание и последовательность слов и выражений, задумалось бы всякое словосочинение, всякая грамматика и даже логика, не зная, как подвесть эти формы под правила: так и над языком Пахимера по местам не может не задуматься всякая филология. Читая и переводя его, иногда нужно бывает забыть все требования грамматики и ловить мысль одним контекстом.