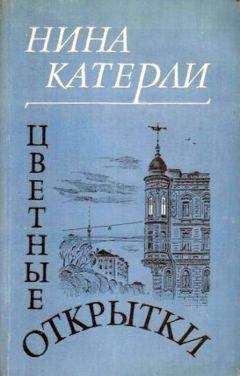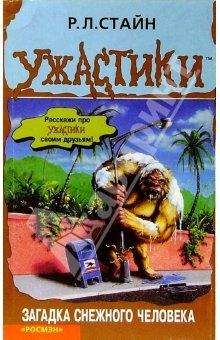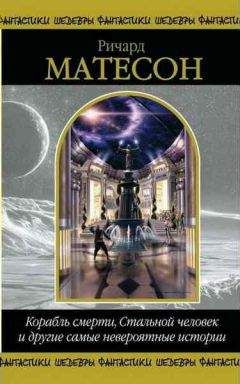Вадим Рабинович - Алхимия
Обращусь теперь к описаниям-образцам Альбертовой суммы, комментируя только один момент: слитность вещи и имени, их чередование, возвышение вещи и заземление имени. Это собственно алхимический феномен, переводящий теологическое теоретизирование и материальную демиургию в состояние парадоксального смешения этих сфер деятельности средневекового человека.
Ртуть — «плотная жидкость, которая находится во чреве земли…» Природа ее жидкая. Она плотна, но и суха. Она же — материя металлов. Ее природа холодна и влажна (оппозиция к ее сухости). Она — «источник всех металлов», настаивает Альберт. «Все металлы сотворены из нее». «Ртуть смешивается с железом, и ни один металл не может быть озолочен (позолочен) без помощи ртути». Ртуть — «живое серебро». Если ее смешать с серой, а потом возогнать, то получится «сверкающий красный порошок», то есть философский камень, по сожжении вновь обращающийся в жидкость — исходную ртуть (с. 21–22). Физика ртути неотделима от ее метафизики. Граница зыбка. Начало и принцип, состояние и свойство, вещество и вновь принцип. Все это вместе, поочередно, порознь и… вновь вместе.
Киноварь — «субстанция благородная». Ее «делают из живого серебра и серы» (с. 35–36). С самого начала начинается странное. С духовными началами действуют как с вещами: мельчат, помещают, нагревают, охлаждают, вынимают. Но прежде идеальные принципы — ртуть и серу — отмывают, кипятят и прочее. Сера и ртуть как вещества дают метафизическую киноварь, а сера и ртуть как принципы дают сверкающий красный порошок минеральной краски.
Растворение есть «слияние какого-либо прокаленного вещества с водою». Раствор можно перегонять. Нагревание способствует растворению. Иногда растворению помогает охлаждение. Некоторые вещества прежде прокаливают с серой и лишь потом растворяют (с. 45). Техника растворов. Не больше. Но цель опять-таки метафизическая: «процедура эта изобретена для того, чтобы скрытые качества вещества могли бы стать явленными твоему взору, а явленные качества, напротив, уйти вглубь» (там же). Но также и… для тривиальной перегонки. Вновь единство алхимической двоичности.
«Теперь надлежит рассмотреть печи для возгонки, — пишет Альберт Великий, — которых должно быть по крайней мере две или четыре. У этого рода печи всегда должны быть диск, проход и отверстия, как и у печи фшософов, только несколько меньших размеров. [Добавление: их следует помещать всегда вместе, чтобы удобнее было ими пользоваться]» (с. 16). Описание к чертежу. Но… печь философов — умозрительная печь, печь в принципе, идея печи, но с отверстиями, диском и проходом, с настоящими, а не принципиальными, проходом, диском и отверстиями. В том-то вся штука!
«Эксперимент» и «теория» — «теория» и «эксперимент». И то и другое — в кавычках. Земное и небесное даны вперемешку: серое небо — голубая земля. Если алхимический опыт и алхимическая теория — квазиопыт и квазитеория, то смешение имени и вещи — подлинное смешение. Где же, однако, то скрепляющее вещество, которое удерживает эту смесь в ее индивидуальном, не просеиваемом на отдельные фракции, качестве (та же проблема: единение верха и низа Гермесовой скрижали)? Это эмоциональная энергия алхимика, прячущая языческое свое прошлое в потемках александрийского подтекста; алхимический апокалипсис
Альберта Великого: «В этом месте моей книги я могу достоверно сказать, что вполне обучил тебя сбирать многоразличные цветы, источающие благоухание, приносящие здравие и красоту, — венчающие славу мира. Но среди прочих цветов есть один — наикрасивейший, благоуханнейший из всех. Это цветок цветов, роза роз, наибелейшая лилия долины. Возликуйте и возрадуйтесь, любезные чада мои, в невинной богоданной юности вашей собирающие сии божественные цветы. Я привел вас в сады Парадиза. Срывайте цветы, выращенные в райском саду! Плетите из них венки. Венчайте ими чело ваше. Возликуйте и возрадуйтесь ликованием и радостью божьего мира.
Я открыл перед вами, о дети мои, сокрытые смыслы. Пришла пора помочь вам сподобиться великих тайн нашего искусства, столь надолго сокрытых от взоров ваших, — вывести вас к свету.
Допреж я научил вас, как изгонять порчу и собирать истинные цветы, доподлинные сущности тех субстанций, с коими вы имеете дело. Ныне же я выучу вас взращивать их, для изобшьного плодоношения. Но один из тех плодов вдруг окажется последним и венчальным из всех — плодом плодов — навечно, навсегда…» (с. 58–59).
ТЕПЕРЬ ЖЕ, вслед за этим общим описанием алхимического умозрения и алхимического рукотворения, начну анализ деловой мысли и мысленного дела алхимиков. Начать следует с главных объектов алхимической мысли — алхимических первоэлементов.
Исходным рубежом алхимического элементотворчества можно признать Аристотелево учение о четырех элементах-стихиях и качествах-свойствах. Можно обратиться и к Платонову «Тимею»[111]. Учение о четырех элементах усвоено герметической философией как некая метафора по поводу мироустройства; анонимная по существу, но получившая имя Аристотеля. Впрочем, имя Платона (V–IV вв. до н. э.) тоже подошло бы для алхимического натурфилософствования, неоплатоническое начало которого бесспорно.
Учение о четырех элементах выглядело у алхимиков как учение наставительное, заклинательное. Живая проблемность обернулась косной догматикой.
«Тимей» Платона изучен всесторонне. Подчеркну лишь то в «Тимее», что могло бы заинтересовать алхимика, обратись он и впрямь к Платону. Но и Платона, и Аристотеля алхимик читал из вторых рук — в догматизированном виде. Сами же догматически понятые и Платон, и Аристотель в его руках становились и вовсе косными. И все-таки на что бы он мог обратить в «Тимее» внимание? «Огонь, вода, земля и воздух — это видимые тела» (Платон, 1971, 3(1), 46d, с. 487), — прочитал бы он там. Качества четырех элементов формулируются как пределы ощущений каждого из них, когда смерть одного означает жизнь другого, ибо «огонь живет смертью земли, воздух живет смертью огня, вода живет смертью воздуха, земля — смертью воды» (с. 504). Таков круговорот первоэлементов в «Тимее». Их как бы нет. Они — лишь метафора, комментирующая мироустроение. Зато есть их умеренные, смирённые формы. Свет, например, именно такая форма огня: «Боги замыслили, чтобы явилось тело, которое несло бы огонь, не имеющий свойств жечь, но изливающий мягкое свечение, и искусно сделали его подобным обычному дневному свету» (3(1), 45в, с. 485). Но огонь тождествен свету. Его боги-демиурги искусно сделали подобным свету. Огонь (свет) как изделие. Огонь как стихия бесплотен. Зато он носитель свойства огнистости. Он в некотором роде — бессубстанциальное качество; качество без вещи, его несущей. Принцип-идея. Платоновские начала-принципы — материал, из которого устрояется мир, ваяется космос, но не как из глины четырех сортов.
Этот мир — лишь одна из творческих возможностей демиурга. Есть и другие возможности. Отсюда многообразие символических реминисценций в духе «Тимея». Это, по А Ф. Лосеву, символотворческая игра: игра и Платона, и бога-демиурга (с. 657).
По Платону, в мире, готовом и изготовленном, начала как вещи ускользают: огонь — только для зрения; земля — для осязания. Физическая природа разымается разными органами чувств, ибо она второстепенна. Лишь геометрия — первостепенна. Она и есть физическая реальность — тело космоса, гармоническое и совершенное. Гармония эта зиждется на невесомом эфире, не тождественном огню, хотя «огненность» есть и в нем. Эфир соотнесен с первоматерией — гармонической, а не хтонической. Что можно сделать из четырех стихий? Пожалуй, ничего, ибо с ними нельзя манипулировать как с вещами. Зато можно с идеями, как это и делал платоновский бог-демиург. Эта мысль пришлась бы алхимику по душе, прочти он этот диалог.
И все-таки в «Тимее» как будто изложен весь златоискательский план той алхимии, которая спустя много веков еще только возникнет. «Положим, — говорит Платон, — некто, отлив из золота всевозможные фигуры, без конца бросает их в переливку, превращая каждую во все остальные; если указать на одну из фигур и спросить, что же это такое, то будет куда осмотрительнее и ближе к истине, если он ответит «золото» и не станет говорить о треугольнике и прочих рождающихся фигурах как о чем-то сущем, — ибо в то мгновение, когда их именуют, они уже готовы перейти во что-то иное, — и надо быть довольным, если хотя бы с некоторой долей уверенности можно допустить выражение «такое». Природа принимает любые оттиски… отпечатки по образцам вечносущего» (1, 50, в, с, с. 491). Утверждается бесформенная и пустая среда, в которой зарождаются вещи как отпечатки вечных идей. Отсюда неоплатонический символизм, оформление бесконечных возможностей свойств вещей, идеальная порождающая модель (комментарий А. Ф. Лосева; там же, с. 657).
Но алхимик усмотрел бы здесь и свое, алхимическое. Если отливки — из разных металлов, то золото — эссенция этих металлов, а формальные отличия — их акциденции, устранимые технохимическими процедурами. Идея трансмутации. Если же металл един — золото, то и оно существенно, ибо прибавки — лишь дело рук. Незыблема только идея «золотости» — квинтэссенция. Четыре элемента-стихии — за текстом и пребывают пока в метафорической необязательности.