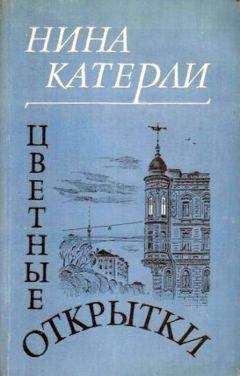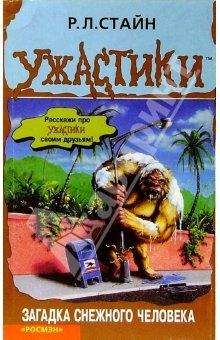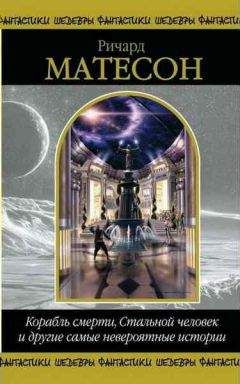Вадим Рабинович - Алхимия
И вот, написав первый свой труд в этом институте, кажется «Зимой с Декартом», Жорж смиренно принес рукопись А. Т. Григорьяну, а тот, чтоб не приглашать графолога для расшифровки почерка («нрзбр»), отдал текст машинистке-надомнице, чтобы та положила сей текст на свой надомный же ундервуд.
Но не долго длилась радость первопечати. Дойдя до 30-й (или около того) страницы, машинистка-надомница, будучи целомудренной девушкой, зарделась от смущения, опустились ее белые руки, задрожали ее худенькие пальчики… И вот она уже с рукописью в руках в кабинете замдиректора С. Р. Микулинского, бдительно блюдущего целомудрие всей печатной (даже на машинке) продукции всех сотрудников института, так и норовящих, по мнению смолоду перепуганного С. Р., устроить какую-нибудь козу и что-нибудь эдакое ввернуть в свои рукописи, даже и по истории математики, например. Со словами «Я дальше печатать это непотребство не буду» оставила на замдиректорском столе рукопись и ушла. Боюсь, что навсегда.
До какого же места рукописи Жоржа дошла бедная девушка? А вот до какого.
Описывая Декартову систему координат как перекрестье ординаты и абсциссы, Гачев все это подал, как сказал бы куртуазный Сергей Сергеевич Аверинцев, в бахтинской топике телесного низа. И тогда ось-ордината — это рифма, например, к слову «не балуй», коим пронзена дырка-ноль, что в точную рифму к красивому слову «звезда». До такого эвфемизма, конечно, Жорж не додумался, а просто с наследственной большевистской прямотой все это так прямо и выпалил на 30-й странице своего сочинения, чем и смутил девственную душу труженицы машинной писи.
Семен Романович Микулинский устроил выволочку Ашоту Тиграновичу Григорьяну, а тот в свою очередь — Георгию Дмитриевичу Гачеву, а сей последний никак не мог еще довольно долго взять в толк — за что… Как же так: гениталии есть, а слов, их представительствующих, выходит, нет? Любил говорить правду, даже когда обязался жить тихо. Тихо, оно, конечно, тихо, а правда — правдой. Честное слово!..
(Примерно в те же времена Гачев придумал такое:
Низ ея матерьяльно-телесный
У ея был ужасно прелестный.)
Надзор крепчал…
Помню еще и такое. Гачев печатает, уже будучи в секторе Б. М. Кедрова, маленькую статейку (не помню о чем, но гениальную) в журнале «Природа». Несмотря на ее малость, бдительный замредактора журнала (он же замдиректора института) А. С. Федоров посылает статейку, на всякий случай, на внутреннюю рецензию не кому-нибудь, а академику Д. С. Лихачеву. Надо сказать, опрометчиво посылает. И получает такой ответ: «Несмотря на гениальность статьи Г. Д. Гачева, я все же рекомендую ее напечатать». Свободный поддержал свободного.
Так постепенно, исподволь и крадучись, все шло к новым временам.
* * *В ряду таких событий упрочивалась серия «Философское наследие» в издательстве «Мысль». Собрался выходить огромный том Н. Ф. Федорова, известного воскресителя всех умерших. Книга была подготовлена заботами Светланы Семеновой. Она любила этого некрофильствующего философа, а ее любил наш герой — тихий Жора Гачев. «Жены должно быть много. Тем более моей жены — дебелой и большой», — говорил он. И в самом деле, Светланы было с избытком, и Жора ее обожал в ее серебряной избыточности. И если что — готов был за нее в бой. И бой за нее грянет, и притом очень скоро.
Федоров шел трудно. Его продвижение к Гутенбергу (или к своему однофамильцу, как вам будет угодно) было более чем неспешным. И опять тормозом был злополучный С. Р. Микулинский (с целью выслужиться). Нужна была поддержка общественности. И общественность нашлась. Она, общественность, написала в какую-то инстанцию письмо в поддержку, но не столько из-за большой любви к Федорову, сколько из-за большой нелюбви к Микулинскому, душителю, так сказать, свободной мысли, пусть даже и некрофильской. Письмо подписали пять человек — А. В. Ахутин, П. П. Гайденко, Вик. П. Визгин, Б. Г. Кузнецов и я.
С. Р. Микулинский велел парторгу С. В. Шухардину собрать партийное (открытое!) собрание с целью осудить подписантов, а покарать, как потом выяснилось, наиболее строптивого — меня. Все шло своим чередом, как и полагалось идти всякому уважающему себя партсобранию (невзирая на его открытость): все клеймили Федорова, подписантов называли идеологическими диверсантами, один из подписавшихся (Б. Г. Кузнецов) отозвал свою подпись (мол, черт попутал) и т. д. Исход, казалось, был предрешен. Как вдруг тишайший Гачев, потребовав слова и не получив его, прошел к трибуне и, подобно горилле, обретшей речь, взговорил, возопив: «Доколе…» Доколе ничтожество под видом директора института будет решать, что публиковать, а что нет, вместо того, чтобы озаботиться мытьем окон, вывозом многовековой грязи из засранного конференц-зала и тому подобным. Его трубный глас громыхал. Он, перебирая листочки с цитатами русских космистов, складывал впечатляющую картину (маслом) в защиту несчастного философствующего библиотекаря. Но вдруг случилось неожиданное: бумажки выпали из дрожащих от гнева рук оратора и попадали под трибуну. Он, исчезнув под трибуной, стал их собирать, а голос его гремел и гремел, так сказать, de profundis, как сказали бы древние латиняне. Из глубин и трибунально. Это был глас лешего и гориллы одновременно, а лик его был, по-видимому, ужасен и прекрасен тоже одновременно. Партийцы улюлюкали «гэть его»…
Но в момент самого главного «гэть» от парторга Шухардина взял слово сам С. Р. Микулинский, все это и затеявший: «Говорите, Георгий Дмитриевич, сколько хотите. Ведь вы защищаете свою жену. Я бы тоже защищал свою жену, если бы ее ругали, как вашу. А вам, Семен Викторович, как парторгу скажу вот что: сейчас не тридцать седьмой и вам никто не позволит повторить этот год в нашем институте». Члены партии поникли и приуныли. Микулинский торжествовал победу, хотя и пиррову. Тишайший Гачев договорил, но уже не так темпераментно — как говорится, в жанре катастрофического снижения пафоса. Все почуяли «блаженный ужас Страшного суда» (Августин).
«Не трожьте мою бабу!» — голосом братьев Гракхов, Цицерона и Жореса сразу заключил свою речь Георгий Дмитриевич.
А Федоров вышел тиражом 50 000 экземпляров.
* * *Г. Д. Гачев умел заступаться не только за свою жену, но и за своих товарищей тоже, особенно когда Рубикон страха был уже перейден. Например, за меня. Когда меня уже приготовили к передаче с единицей (т. е. со своей ставкой) в Научный совет к И. Т. Фролову (Б. М. Кедров помог, а иначе — на улицу), как холопа какого, Жора зашел в мой сектор и увидел, как я плачу злыми слезами среди моих холуйствующих сослуживцев, руками которых я был сначала придушен, а потом и съеден (к счастью, не совсем и не всеми). «Ну что? Съели чижика?» — спросил Гоша. Все потупились… Я это запомнил навсегда.
* * *Вот каким был мой Жора — Гоша — Гена… Свободный, свободный. Свободный всегда. Со свободной речью, собственным свободным письмом, «своей бабой», своими друзьями. И писал себе, и писал… Тихо писал свои «психокосмологосы» — национальные образы народов мира. И написал их столько… И даже больше, чем столько: больше, чем государств в ООН, но и народов и языков на Земле, вместе взятых, — шутили мы с ним.
* * *Но были и радости. Например, защита докторской по филологии в МГУ в 1981 году. С моими стихами на послезащитной пирушке, которые начинались так:
Граждане! Внимайте в оба уха:
Пир ума у нас сейчас или пир духа?..
Может быть, именно с этого исторического момента эта самая пирдуха вошла в научный оборот…
* * *Библер… Как вызволить из темени небытия того, кто ушел? Ушел только-только. Когда тепло от рукопожатия ушедшего еще облекает наши ладони, улыбка еще искрит радужку наших глаз, а возражающий голос ушедшего разума окликает ответную реплику, готовую безответно слететь с уст живых.
Ушедший — жест, поступь, поступок. И это не возвратить. Можно лишь вспомнить. Вспоминать. В кругу товарищей, друзей, близких. В кругу, но и в одиночку. А вот ушедшее — дело и мысль — можно доделать, домыслить, перечитывая и передумывая это ушедшее — тексты. Особенно еще не пришедшие, которым только предстоит прибиться к одинокому «берегу письменного стола» (И. Сельвинский).
Об ушедшем… В двойственном его бытовании — живом, человеческом (поступь, жест, поступок). И запечатленном на бумаге — в письменном тексте. И тогда ушедшее — ив самом деле еще не пришедшее.
Привести ушедшего и его ушедшее к теперь и здесь дано только нам и немедленно, потому что только-только и вот-вот… Только нам и сей же час, потому что ратоборствования мысли должны вот-вот воспрянуть, как и полагается им возобновляться после перерыва… Продлим близкую-дальнюю мысль наших близких в себе самих, зависимых взаимно и от тех, кого уж нет.