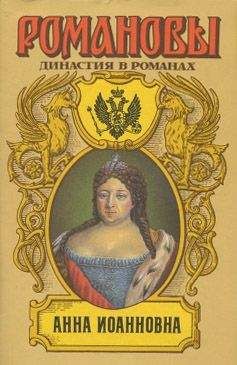Марк Волынский - Необыкновенная жизнь обыкновенной капли
И он вошел — Иосиф Флавий,
Немного лыс, немного сед.
Тернистая дорога к славе
Уже оставила свой след.
................. ..............................
И он ушел — Иосиф Флавий,
Но только головою вниз.
Тернистая дорога к славе,
Судьбы извилистой каприз!
Кажется, именно с этой эпиграммы началось едва ли не повальное увлечение поэзией. На рабочих столах появились томики Маяковского, Пастернака, а кое у кого и Есенина. В меру сил и сами начали упражняться в стихосложении, сначала пародии и эпиграммы друг на друга, а затем и посвящения каким-либо событиям и датам. Постепенно добрались даже до лирики.
Мне Скобелкин посвятил лирико-иронические стихи о нереализованной идее улавливания капель в паутину. Остались в памяти лишь эти строки:
...Он знал, что в жизненной путине
У каждого свои пути,
Но знал ли он, что в паутине
Ему решение найти?
А вот отрывок из эпиграммы Клячко на Скобелкина:
С высот принципа Гамильтона,
Забыв порой наук азы,
Он утверждает беспардонно,
Что мир — суть капля и пузырь.
Но без любви на свете серо...
И вскоре убедился он,
Что, кроме Гамильтона — сэра,
Нужна и леди Гамильтон.
Последние две строчки требуют, вероятно, «исторического комментария». Дело в том, что именно тогда, когда Клячко писал свою эпиграмму, на советских экранах шла английская кинокартина «Леди Гамильтон». Вот Клячко и «обыграл» две фамилии — героини фильма и выдающегося ирландского математика Уильма Роуана Гамильтона (1805—1865), труды которого сыграли первостепенную роль в развитии гидромеханики и гидродинамики.
Увлечение поэзией длилось довольно долго, но и эта волна схлынула. На смену поэзии пришли шахматы, на блиц-турниры с часами уходил весь обеденный перерыв. Только меня поэтическая волна несла все дальше и дальше. Еще со школьных лет обнаружилась «стихо- устойчивость»: я мог неутомимо, днями читать и бубнить стихи, «хорошие и разные» Но всегда оставался Блок. Блок и стал ключом к пониманию других поэтов. Я начал вчитываться в Пастернака, как в научную работу, мне было недостаточно, что он нравится, притягивает,— хотелось понять, почему, в чем суть его магии... Никак не думал, что доведется мне нежданно-негаданно на какой-то миг соприкоснуться с Борисом Леонидовичем.
В молодости привелось мне постучаться в литературную дверь, она слегка приоткрылась, но потом жизнь отнесла меня в другую сторону. Однако мысль снова и понастойчивей толкнуться в эту дверь изредка возвращалась, правда, чем далее, тем реже. Довольно напряженная работа оставляла не слишком много времени для размышления о моем призвании, я еще по давней привычке иногда кое-что набрасывал, заполнял записные книжки, отцеживая в них планктон повседневных наблюдений. Я считал все это некой хронической затянувшейся болезнью и придумал в утешение следующий тезис: «Если я до сих пор не изменил свой жизненный путь и еще не в литературе, значит, и не надо, просто нет достаточных способностей. Если бы способности —- сами пробились бы наружу»,— И вдруг неожиданно для меня самого перечитанные и заново пережитые стихотворения Б. Пастернака побудили меня обратиться к Борису Леонидовичу с письмом. Я написал кое-что о себе, о своих раздумьях и сомнениях, об исканиях другого профессионального пути. Мало того, я, подобно чеховскому гимназисту, возвратившему учителю звездную карту со своими поправками, позволил себе еще и покритиковать его стихи.
Прошло некоторое время. Я рассудил по здравому размышлению, что ответа на столь странное и, возможно, неуместное послание ожидать не следует. Слегка сконфузясь и поругав себя за легкомыслие, я забыл о своем поступке. Спустя год я получил ответ. Это было поразительно: Пастернак переживал тогда нелегкие годы, а ожидал, вероятно, еще более трудных...
Его письмо оказалось удивительно откровенным, поражало бережным отношением к незнакомому человеку, душевной зоркостью и проницательностью (оно было очень личным для нас обоих, и я не могу привести его полностью...).
15 дек. 1953 г.
Глубокоуважаемый тов. Волынский!
Вы, наверно, уже забыли о своем письме, написанном около года тому назад. Я тогда же решил обязательно ответить Вам. Но я был очень занят. Последнее десятилетие я пишу для себя, себе в убыток, не для печати — и, значит, вдвойне дорожу временем, чтобы укоротить свой отход от заработка и оправдать потерю времени действительно сделанным делом.
Это попутно ответ на один из Ваших вопросов: «стоит ли Вам толкаться в литературную дверь».
Ваше письмо написано очень живо, Вы умеете мыслить связно и интересно... все это — благо, счастливый дар, который все равно участвует в движении и ходе Вашей судьбы и жизни независимо от того, пересматриваете ли Вы свой выбор призвания или не пересматриваете. Вы инженер, ученый, у Вас есть знания, пользуйтесь же ими и радуйтесь им.
Наше время наложило ложный налет профессионализма на многое, что совсем не обладает такой обязательной определенностью. Ваш случай, который Вы, хотя и шутливо, представляете примером хронической болезни, есть случай настоящего умственного и душевного здоровья, которого пожелаю Вам и в дальнейшем.
Мне нельзя затягивать ответа Вам, потому что и сейчас у меня нет времени.
Только еще одно замечание. Вы говорите обо мне: «Вот Вы неповторимым поворотом, ярким неожиданным образом взволновали читателя, обострили слух и зрение, он узнает мир заново, он стал богаче, и это доставляет чувство радости. С этим чувством он идет за Вами и ждет — вот его обостренному чувству откроется что-то главное, что-то значительное, но иногда этого не происходит». Совершенно правильное наблюдение. Это один из моих ранних недостатков, которые вызывают во мне двойственное отношение к моим прежним книгам, отчего я и отказался в этом году от переиздания избранного моего однотомника, поставленного в планы Гослитиздата на 1955 год. Серьезность Вашего письма очень понравилась мне. От души желаю Вам удачи в любом из Ваших начинаний.
Всего лучшего.
Ваш Пастернак.
Я долго жил под впечатлением письма. Перечитывал его. Письмо было написано простым школьным пером «№ 86» (в те годы употреблялось такое, а самопишущих ручек Пастернак не признавал). Запомнился почерк «летящих журавлей». Нет, Борис Леонидович мне не советовал менять профессию, и не только из-за моих личных качеств. Его письмо пробило скорлупу моей ограниченности и заставило серьезней поразмыслить о вещах более важных и сложных, чем проблема личного выбора...
На этом, собственно, можно было бы и закончить краткую историю моего несостоявшегося личного знакомства с Борисом Леонидовичем Пастернаком, если бы с давних лет в моей памяти не сохранился один, еще более ранний эпизод.
Вскоре после окончания Великой Отечественной войны мне вместе с группой наших сотрудников довелось присутствовать в Московском Доме ученых на поэтическом вечере Пастернака.
По установившейся традиции после чтения стихов и ответов на вопросы, заданные в письменном виде, мы со всех сторон обступили поэта, чтобы продолжить взволновавший всех нас разговор.
— Как вы считаете,— спросили Пастернака,— кто из поэтов сумел лучше всех рассказать о прошедшей войне?
Ответ последовал сразу:
— Твардовский. В поэме «Василий Теркин».
А после минутного размышления Борис Леонидович добавил:
— Твардовскому удалось это сделать потому, что ему дарован абсолютный поэтический слух. Поэт, лишенный такого слуха, подменяет живую народную речь диалектизмами. Собирает по крохам, записывает, а в результате вместо живой речи — фальшивая смесь из псевдолитературных и псевдонародных выражений и слов. У Твардовского совершенно иначе. Ни одного фальшивого звука. Поэма «Василий Теркин» — это не только произведение. Это сама жизнь.
Наша память, к сожалению, несовершенна. Не ручаюсь, что мне удалось воспроизвести этот ответ Пастернака дословно, но я постарался донести его смысл. Мысль о том, что абсолютным слухом могут обладать не одни лишь выдающиеся музыканты, показалась мне чрезвычайно глубокой. Может быть, именно эта мысль породила во мне доверие к Пастернаку и спустя несколько лет побудила меня обратиться к нему с письмом.