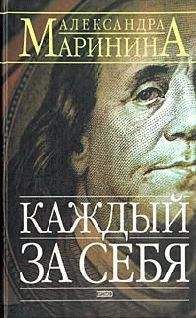Анфилов - ФИЗИКА И МУЗЫКА
Пусть звон нашей струны безнадежно искалечен — каким-то способом «обезглавлен», лишен столь важной составной части, как основной тон, — но уху и такое грубейшее искажение не страшно. С помощью комбинационных тонов «отсеченная голова» приращивается. Эта удивительная хирургия доказана на множестве опытов. Она напоминает расшифровку тайнописи, реставрацию выцветших картин или, если хотите, нашумевшие в последние годы эксперименты восстановления лица по черепу.
Как бы ни пищал Серый Волк из детской сказки, как бы ни старался выбросить прочь басистый призвук своего основного тона, Красная Шапочка по комбинационным тонам должна была распознать его кровожадный голос!
Или вспомните телефон. Ради простоты и экономии низкие звуковые частоты по телефонному кабелю не передаются. Но их великолепно реставрируют уши абонентов. Речь слышится вполне разборчиво.
И, наконец, тут же заключена разгадка удивительного спектра мужского баса, о котором вы читали раньше. В голосе певца основной тон может почти не присутствовать — ухо само сложит его из высших обертонов. Так приготавливать звуки хоть и сложнее, чем обычным «струнным» способом, но зато гораздо экономичнее. Для создания низких звуков не требуются гигантские голосовые связки и объемистые резонаторы. Не нужно тратить силы на раскачку тяжелых вибраторов. Словом, звуковая «информация» передается от человека к человеку с наименьшими затратами энергии, будто по телефонному каналу связи. Природа оказалась неплохим, знающим свое дело «связистом».
ЗА ДЕРЕВЬЯМИ – ЛЕС
В оркестре на десятки скрипок приходятся два-три контрабаса, и мелодии, исполняющиеся одной виолончелью, отлично слышны на фоне десятка высоких скрипичных голосов.
Почему так?
Потому что звуки оркестра — словно роща на косогоре. У «подножия» музыкального диапазона из низких тонов контрабасов и виолончелей растут самые «длинные» звуковые «деревья» обертонов. Они простираются на весь диапазон. «Верхушки» их, хоть сами по себе и не слышны, но «заслоняют» коротенькие «кустики», выросшие наверху из тонких голосов скрипок и флейт. Отсюда понятна и повышенная чувствительность уха к звукам высоких частот. Не будь ее, мы вообще не услышали бы скрипок на фоне виолончелей.
Однако дело не только в этом. Высокие тоны-«призраки», как и низкие, помогают уху разбираться в звуках, даже лишенных естественных гармонических обертонов, анализировать и оценивать «чистые» звучания — не имеющие сложного тембра.
Тут уже сам орган слуха выступает как плодородная почва, а громкие звуки — как семена. Будто травинка из зернышка, из чистого тона в ухе молниеносно вырастет звуковое «дерево», унизанное «ветвями» субъективных обертонов. «Разукрашенные» же звуки проанализировать нетрудно. Ведь деревья отличить друг от друга проще, чем семена.
Зная все это подробно и точно, акустик, вооруженный арифмометром, может вычислить рациональный состав инструментов, необходимый для исполнения той или иной симфонической музыки. «Математическая инструментовка» оказала бы немалую помощь и композиторам и дирижерам. В этом деле далеко не всегда спасает интуиция. Известно, например, что Петр Ильич Чайковский безжалостно забраковал свою же оперу «Кузнец Вакула» — и именно из-за неудачной оркестровки, из-за того, что в ней «деревья загораживали лес».
В ухе — оркестр, в звуке каждого инструмента — оркестр, на концертной эстраде — оркестр. Узнав первый, удается понять строение второго и третьего. Все они, как видите, тесно связаны.
Даже порядок размещения инструментов на концертных подмостках объясняется особенностями нашего уха. Совсем не случайно тонкоголосые скрипки выдвинуты вперед, а басистые контрабасы спрятаны сзади. Вопреки знаменитой басне Крылова, музыкантам важно знать, кому из них где сидеть.
Содружество звука и слуха глубоко и несокрушимо. Именно в нем фундамент музыкальной акустики, да и всей музыки.
Более того, поскольку человеческий слух неразрывно связан с мозгом, а мозг — со всем организмом, музыка имеет и колоссальное физиологическое значение. Медицина давно знает, что музыка может помогать труду или мешать ему, может вызывать ощущение физической боли и, наоборот, служить отличным обезболивающим средством. Некоторые зубные врачи надевают своим пациентам наушники и включают магнитофон с какой-нибудь музыкальной или шумовой записью. Потом начинается мучительная зубоврачебная процедура, которую пациенты переносят неизмеримо легче, чем в тишине. Музыка заглушает боль! В поручни кресла при этом ставят регулятор громкости. Больнее человеку — он сильнее сжимает поручень, усиливает музыку — и таким способом маскирует ощущение боли.
О крепнущей ныне связи музыки и медицины можно говорить очень много. Но, чтобы не заблудиться в дебрях отступлений, вернемся к нашей главной теме — к содружеству музыки и слуха.
ЗАГАДКА БЛАГОЗВУЧИЯ
Когда никого не будет рядом, ударьте легонько кулаком по клавишам рояля. О, какой скверный получится аккорд Ухо режет!
А теперь нажмите через одну любую тройку белых клавишей. Слышите разницу? То-то.
С древнейших времен музыканты подбирали приятные созвучия. Тысячи книг написаны на эту тему, придумана масса правил. Но до Гельмгольца никто не пытался проникнуть в физическую и физиологическую подоплеку красоты гармоний.
Что же сказал Гельмгольц?
Нам едва ли стоит углубляться в тонкости его теории, насыщенной математическими вычислениями, графиками «грубости» созвучий и прочими сложными вещами. Главное в том, что ухо лучше всего признает аккорды, близкие к естественной акустической гармонии. Если из одиночного звука ухо само приготовляет стройный хор главных обертонов, то и искусственное сочетание их будет оценено как нечто весьма приятное.
Когда одновременно звучат тоны, отличающиеся по частоте колебаний точно в два, в три, в четыре раза, мы ощущаем самые прозрачные, чистые созвучия. Ведь это — не что иное, как ближайшие звуковые родичи и ведущие «солисты» внутренней «симфонии» уха, которые наш слух сам выделяет и подчеркивает.
Гельмгольц перелистал кипы старинных нот и убедился, что в прошлом, когда аккорды только-только начинали входить в моду, гармонический склад европейской музыки довольно строго следовал этим несложным правилам. Например, итальянский композитор XVI века Джованни Палестрина писал свои сочинения так, будто у него перед глазами стояли гельмгольцевские графики и таблицы обертонов.
Правда, позднее началось явное «непослушание» композиторов акустике. Да это и понятно. Как ни сладок шоколад, он быстро приедается. Иной раз уху приятнее резкий диссонанс, чем закономернейшее гармоническое созвучие.
Вообразите нелепость. В вашем классе на учительском столе лежит гармошка, и всякий раз, когда кто-нибудь получает пятерку, учитель берет неблагозвучный аккорд. Пройдет немного времени, и это сочетание звуков станет для учеников дорогим и желанным. Наоборот, самый благозвучный аккорд покажется отвратительным, если долго сопровождать им нечто нехорошее.
В жизни человеческой есть и скорбь, и гнев, и трагизм. Могучее искусство музыки выражает все наши чувства и. ради этого подчас нарушает, сознательно искажает естественную акустическую гармонию. Вероятно, первым таким нарочитым искажением было изобретение минора — мелодического и гармонического склада (музыканты говорят—наклонения), вносящего в музыку грустную окраску. Секрет минора прост: в нем выброшены большие терции (переходы от третьего обертона к четвертому) и вместо них введены более короткие малые терции. Крошечные нарушения естественной гармонии — и музыку не узнать. Вот как чутко наше ухо!
В европейской музыке минор поначалу приживался плохо. Девственные уши старинных композиторов слышали в нем резкую ненатуральность. Даже Бах явно предпочитал жизнерадостный мажор, а если уж писал музыку в миноре, то заканчивал ее обыкновенно счастливым мажорным концом. Зато в наши дни мажор и минор вполне равноправны. «Марш энтузиастов» — мажор, «Подмосковные вечера» — минор. Гимны, марши, торжественно-ликующие, шуточные произведения, как правило, мажорные. А лирические, задумчивые, грустные, драматически-суровые, скорбные вещи — минорные.
Впрочем, минор — лишь одна из «поправок», вносимых музыкантами в акустический порядок созвучий. У разных народов в разные времена были приняты и многие другие нарушения акустически-математической «законности» музыки.
ЧТО ТАКОЕ ЛАД
Услышав какофонию, вы говорите:
— Фу! Бессвязный набор звуков! Ни складу ни ладу...
Примечательная фраза. Обратите внимание: бессвязность — признак немузыкальности. А если звуки связаны друг с другом, если они ладятся между собой, — это уже музыка.