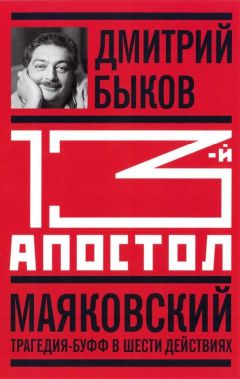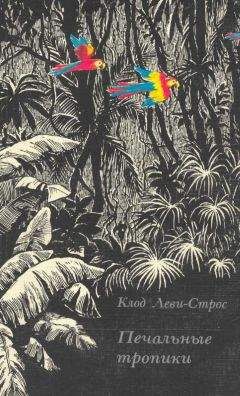Дмитрий Быков - Тринадцатый апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях
Маяковский переживал роман Лили с Краснощековым мучительно (последний ее роман, который для него что-то значил. Потом он уже спокойно следил, как она сохнет по Пудовкину или передаривает Кулешову его собственный, для себя привезенный из Франции халат). В сентябре 1923 года Краснощекова арестовали — якобы за злоупотребления в возглавляемом им Промбанке; о суде над ним подробно пишет Янгфельдт. В марте 1924 года его приговорили к шести годам, в январе 1925 года амнистировали, в том числе благодаря неутомимым хлопотам Лили (сохранилась ее записка к председателю Моссовета Каменеву с просьбой принять ее по делу Краснощекова — и, видимо, принял). После этого он возглавил Управление лубяных культур. Все это время его дочь Луэлла жила у Бриков, была полноправным членом семьи, Маяковский задаривал ее шоколадом.
Маяковский пытался делать сцены, она брезгливо его осаживала, объясняла, что не может бросить Краснощекова, пока он в тюрьме (потом они разошлись легко, словно ничего и не было).
5Одна из тем первых двух частей поэмы (там их несколько, все в сложном симфоническом переплетении) — то, что судьба мира решается именно в Москве, между ними, в их отношениях. От этого в конечном итоге зависит судьба революции, а от революции — судьба мира:
Просветление мира
Застыли докладчики всех заседаний,
не могут закончить начатый жест.
Как были,
рот разинув,
сюда они
смотрят на рождество из рождеств.
Им видима жизнь
от дрязг и до дрязг.
Дом их —
единая будняя тина.
Будто в себя,
в меня смотрясь,
ждали
смертельной любви поединок.
Окаменели сиренные рокоты.
Колес и шагов суматоха не вертит.
Лишь поле дуэли
да время-доктор
с бескрайним бинтом исцеляющей смерти.
Москва —
за Москвой поля примолкли.
Моря —
за морями горы стройны.
Вселенная
вся
как будто в бинокле,
в огромном бинокле (с другой стороны).
Горизонт распрямился
ровно-ровно.
Тесьма.
Натянут бечевкой тугой.
Край один —
я в моей комнате,
ты в своей комнате — край другой.
А между —
такая,
какая не снится,
какая-то гордая белой обновой,
через вселенную
легла Мясницкая
миниатюрой кости слоновой.
Ясность.
Прозрачнейшей ясностью пытка.
В Мясницкой
деталью искуснейшей выточки
кабель
тонюсенький —
ну, просто нитка!
И всё
вот на этой вот держится ниточке.
(И оборвалось, как мы знаем; потому что эксперимент не удался, и поэма — прощание с экспериментом. После чего земной шар обрушился в тартарары. Возьмем винтовки новые, на них флажки etc.)
Автоцитат множество, включая отсылку к самому раннему:
Арап —
миражей шулер —
по окнам
разметил нагло веселия крап.
Колода стекла
торжеством яркоогним
сияет нагло у ночи из лап.
Это «Ночь», конечно.
А это?
Большая,
неси по векам-Араратам
сквозь небо потопа
ковчегом-ковшом!
С борта
звездолётом
медведьинским братом
горланю стихи мирозданию в шум.
А это уже — «Эй, Большая Медведица, требуй, чтоб на небо нас взяли живьем».
А вот — «О дряни», то есть о том самом быте, который якобы поглотил любовь и погубил утопию:
Столбовой отец мой
дворянин,
кожа на моих руках тонка.
Может,
я стихами выхлебаю дни,
и не увидав токарного станка.
Но дыханием моим,
сердцебиеньем,
голосом,
каждым острием издыбленного в ужас волоса,
дырами ноздрей,
гвоздями глаз,
зубом, исскрежещенным в звериный лязг,
ёжью кожи,
гнева брови сборами,
триллионом пор,
дословно —
всеми по рами
в осень,
в зиму,
в весну,
в лето,
в день,
в сон
не приемлю,
ненавижу это
всё.
Лучшее начинается потом — когда он представляет посмертное будущее:
Воздух в воздух,
будто камень в камень,
недоступная для тленов и крошений,
рассиявшись,
высится веками
мастерская человечьих воскрешений.
Вот он,
большелобый
тихий химик,
перед опытом наморщил лоб.
Книга —
«Вся земля», —
выискивает имя.
Век двадцатый.
Воскресить кого б?
— Маяковский вот…
Поищем ярче лица —
недостаточно поэт красив. —
Крикну я
вот с этой,
с нынешней страницы:
— Не листай страницы!
Воскреси!
Сердце мне вложи!
Кровищу —
до последних жил.
В череп мысль вдолби!
Я свое, земное, не дожил,
на земле
свое не долюбил.
Был я сажень ростом.
А на что мне сажень?
Для таких работ годна и тля.
Перышком скрипел я, в комнатенку всажен,
вплющился очками в комнатный футляр.
Что хотите, буду делать даром —
чистить,
мыть,
стеречь,
мотаться,
месть.
Я могу служить у вас
хотя б швейцаром.
Швейцары у вас есть?
Был я весел —
толк веселым есть ли,
если горе наше непролазно?
Нынче
обнажают зубы если,
только, чтоб хватить,
чтоб лязгнуть.
Мало ль что бывает —
тяжесть
или горе…
Позовите!
Пригодится шутка дурья.
Я шарадами гипербол,
аллегорий
буду развлекать,
стихами балагуря.
Я любил…
Не стоит в старом рыться.
Больно?
Пусть…
Живешь и болью дорожась.
Я зверье еще люблю —
у вас
зверинцы
есть?
Пустите к зверю в сторожа.
Я люблю зверье.
Увидишь собачонку —
тут у булочной одна —
сплошная плешь, —
из себя
и то готов достать печенку.
Мне не жалко, дорогая,
ешь!
Может,
может быть,
когда-нибудь
дорожкой зоологических аллей
и она —
она зверей любила —
тоже ступит в сад,
улыбаясь,
вот такая,
как на карточке в столе.
Она красивая —
ее, наверно, воскресят.
Здесь финал. Потом — уже чисто формальное завершение, затухание темы. Лучше этого он ничего в своей жизни не написал; и здесь кончается поэт Маяковский, каким мы его знали.
Здесь перелом, ибо это констатация: утопия не состоялась, любовь кончена, жизнь кончена; осталась надежда на посмертие, и место в этом посмертии — незавидное, шаткое. У зверя в сторожах. (Хотя поэзия и призвана сторожить зверя; этого будущего зверя — «обывателиуса вульгариса» — он собирается охранять в «Клопе», где Присыпкина поместят в стеклянную клетку-музей.) Таково его место в будущем — сторожить зверя, не допускать его до человека; а может, сам он в этом будущем — «медведь-коммунист» — будет причудливым зверем в зоопарке, и она придет в зоопарк и узнает его, и улыбнется.