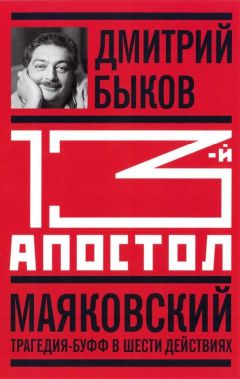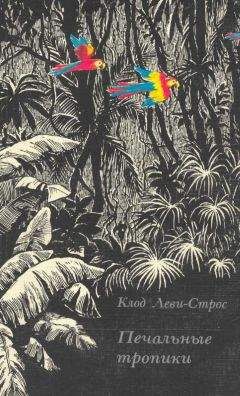Дмитрий Быков - Тринадцатый апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях
Занятно вообще представить Гумилева слушающим «150 000 000». Из всех русских поэтов он был, кажется, самым объективным критиком, но на этот раз, ничего не поделаешь, не понравилось даже ему, и вовсе не по идеологическим мотивам. Ходасевич вообще негодовал, демонстративно не пошел слушать: «Он так же не был поэтом революции, как не был революционером в поэзии. Его истинный пафос — пафос погрома, то есть насилия и надругательства над всем, что слабо и беззащитно, будь то немецкая колбасная в Москве или схваченный за горло буржуй».
Пастернак писал, что после «150 000 000» ему впервые нечего было сказать Маяковскому. Вещь на самом деле не лучше и не хуже предыдущих, но она — другая, и Пастернак ее рубежность с неизменной точностью почувствовал.
Это первая вещь по рациональному, поставленному себе заданию; первая поэма о русской революции, в которой ставится задача не отразить, а преобразить. На обсуждении в том же январе 1920 года в Московском лингвистическом кружке (инициировал Якобсон) много говорили про былины, Державина, Некрасова, — Маяковский все записал, а потом сказал: нет, это и не то, и не другое, а совсем третье, такого еще не было. При всей кажущейся кичливости такого заявления оно справедливо — не потому, что раньше не было эпоса, а потому, что это первая поэма без героя, первый эпос масс. Как раз все фольклорные эпосы предполагают наличие яркого и сквозного героя — в диапазоне от все видавшего Гильгамеша до всех обманувшего Одиссея; если писать эпос про 150 миллионов — ничего не получится. Для эпоса Маяковскому понадобился Иван, и это самое интересное в поэме. Это герой без внутреннего содержания, потому что его внутренним содержанием является все население России, все ее домашние животные и даже пейзажи. Этот герой не в состоянии ничего сказать, кроме «Го, го, го!» — и ничего делать, кроме как идти: «Go, go, go!» От имени столь многочисленных сущностей нельзя сказать ничего определенного, но этот герой и не должен говорить. Он пришел для того, чтобы уничтожить, потому что больше на такое никто не способен.
Поэма производит впечатление странное — если не знать контекста авторской задачи, то и прямо дурацкое, и можно понять Ленина — как-никак литературного критика, — когда он писал: «Как не стыдно голосовать за издание „150 000 000“ Маяковского в 5000 экз.? Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность. По-моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не более 1500 экз. для библиотек и для чудаков. А Луначарского сечь за футуризм».
Но если эту авторскую задачу представлять — все не так ужасно. Из Борхеса мы знаем, что любая национальная мифология строится на базе трех сюжетов: война (как частный случай — осада города), странствие и самоубийство Бога. Для Греции это, например, «Илиада», «Одиссея» и легенда о Прометее (или, кому ближе, о Сократе). В русской классике это «Война и мир», «Мертвые души» — прямо пародирующие «Одиссею» — и христологический пушкинский миф. Маяковский претендует на то, чтобы выстроить с нуля мифологию эпохи: последние строчки поэмы говорят об этом недвусмысленно — «Это тебе революций кровавая Илиада, голодных годов Одиссея тебе!». Что до самоубийства Бога, то миф увенчивается третьим сюжетом — ленинским, и именно в этом обращении Маяковского к ленинской теме состоит глубинная логика его эволюции: без Ленина миф неполон, собственная христология Маяковского после Октября упразднена. В мире делается нечто куда масштабнее всех личных драм.
Сюжет эпоса — мировая революция. В поэме три части, и в первой вся голодная измученная Россия, включая женщин, детей, стариков, животных, даже насекомых, «скручивается» в единого Ивана:
И вот
Россия
не нищий оборвыш,
не куча обломков,
не зданий пепел —
Россия
вся
единый Иван,
и рука
у него —
Нева,
а пятки — каспийские степи. <…>
Совнарком —
его частица мозга, —
не опередить декретам скач его.
Сердце ж было так его громоздко,
что Ленин еле мог его раскачивать.
Эта первая часть производит впечатление двусмысленное: с одной стороны — тут есть и напор, и великолепные образы, и диапазон от крайней сентиментальности до крайнего же зверства (Катаев называл строчку «Стар — убивать. На пепельницы черепа!» самой страшной в мировой поэзии). Но прав был и Набоков, замечавший, что космическое и умозрительное слишком легко теряют по букве. Умозрительное на глазах переходит в уморительное в таком, например, садомазохистском пассаже:
Все,
у кого
мучений клейма нажжены,
тогда приходите к сегодняшнему палачу.
И вы
узнаете,
что люди
бывают нежны,
как любовь,
к звезде вздымающаяся по лучу.
Приглашение «приходите к сегодняшнему палачу» и обещание его нежности — это, конечно, свидетельство сильной риторики и могучего воображения, но, воля ваша, как-то их обладатель уж очень нездоров. Но настоящее нездоровье, конечно, начинается во второй части, изображающей поединок Ивана с Вудро Вильсоном. Это к нему обращаются будущие победители, только собирающиеся скрутиться в единый монолит: «Вильсон Вудро! Хочешь крови моей ведро?»
Эта вторая часть по нынешним временам могла бы стать мощным агитационным текстом, ибо актуальность ее поистине пугающая. Только отсутствием у государственных агитаторов какого-либо мозга, кроме спинного, можно объяснить тот вопиющий факт, что поэма 1920 года еще не разобрана на приличествующие цитаты. Там Иван идет воевать с Америкой — с этим воплощением продажности, богатства и кровожадности. За что именно Вудро Вильсон, приличный, в общем, человек, удостоился у Маяка столь монструозного портрета? Он был как раз один из самых миролюбивых политиков того времени, долго медлил с вступлением в мировую войну, а вступив — непрестанно добивался мира; был первым американским президентом, отправившимся в Европу с официальным визитом, четыре месяца провел в Париже, составляя Версальский договор… Что касается русского вопроса, то Луис Фишер, например, пишет, что у Вильсона не было никакой политики в отношении России. По собственному его признанию, он вообще не понимал, что такое большевизм. Он поучаствовал в интервенции (главную роль в которой, однако, играли англичане и французы), но после 1920 года все острее ощущал провал собственной европейской политики и падение популярности в Штатах. Лига Наций была его идеей — и именно Америка не вступила туда, поскольку Конгресс не захотел это вступление ратифицировать. Ужасный парадокс заключается в том, что Вудро Вильсон, гигант, обладатель титанического дворца и миллионной прислуги, каким он описан у Маяковского, был с осени 1920 года парализован, ослеп на левый глаз, вскоре выехал вместе с женой из Белого дома и до самой отставки выполнял свои обязанности чисто номинально, — просто нации не объявляли, что президент недееспособен. А Маяковский об этом понятия не имел — для него Вильсон был:
рыжий весь,
и ухает ухарево.
Посмотришь в ширь —
иоркширом иоркшир!
А длина —
и не скажешь какая длина,
так далеко от ног голова удалена!
То ль заряжен чем,
то ли с присвистом зуб,
что ни звук —
бух пушки.
Люди — мелочь одна,
люди ходят внизу,
под ним стоят,
как избушки.
Дальше начинается битва Вильсона с Иваном, приводящая к чудовищной поляризации всего мира, исчезновению оттенков как таковых:
Из мелких фактов будничной тины
выявился факт один:
вдруг
уничтожились все середины —
нет на земле никаких середин.
Битва, надо признать, скучная: гигантомания начинает утомлять, все процессы в поэме однотипны — одна масса (хорошая) давит другую массу (плохую), причем на сторону пролетариата становятся еще и вещи. Колье душат буржуев, мебель протыкает их ножками. Буржуи отличаются от синеблузых роскошью антуража и тем, что они жирные. Вильсон напускает на пролетариев разруху и голод — синеблузые в ответ сдавливают горло голода «петлей железнодорожных путей». Вильсон прибегает к бактериологическому оружию, насылая на противника небывалые хвори:
Болезни явились
небывалого фасона:
вдруг
человек
становится сонный,
высыпает рябо,
распухает
и лопается грибом.
В некоторой изобразительной мощи — особенно по части ужасного — автору и тут не откажешь; губят его однообразие, плакатность, анфасность всех вещей. В конце концов, включив личную гигиену, пролетарии справились и с бактериями. Но тут —