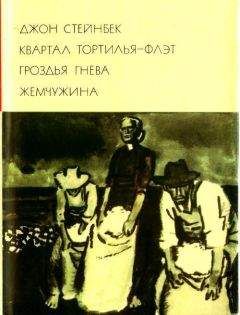А. Марченко - «Столетья на сотрут...»: Русские классики и их читатели
И есть одно несомненное свойство, которое позволяет, отставив все возражения, видеть в "Братьях Карамазовых" одно из глубочайших произведений мировой литературы. Это то свойство, которое особенно ценил в Достоевском и Толстой: величайшая искренность, как и величайшая смелость в схватке с самыми коренными вопросами человеческого бытия. Какая отвага самоопровержения, какая способность все, во что верилось, вновь и вновь ставить под сомнение, какое бесстрашие в обнажении дна души! То бессмертие, о котором мучаются и спорят герои "Братьев Карамазовых" до последней страницы, — уж они‑то, герои этой книги, обрели безусловно.
8За столетие, истекшее с момента их появления, "Братья Карамазовы" сотни раз звучали со сцены. Собственно, еще до окончания публикации книги сам автор неоднократно выступал с чтением отрывков из нее. В марте 1879 года, например, он читал главы из "Братьев Карамазовых" трижды, в 1880 же году выступал с чтением практически каждый месяц. Читал, очевидно, превосходно; ни одно из выступлений не заканчивалось без бурных оваций. До нас дошли специально подготовленные автором для таких чтений тексты "Великого инквизитора" и "Мальчиков". Традицию таких чтений продолжил В. Н. Андреев–Бурлак, известный блистательным чтением исповеди Мармеладова из "Преступления и наказания", а в конце 1880–х годов в композиции "Мочалка" исполнявший Снегирева, что стало вершиной его сценической деятельности. Позднее эту традицию чтения — все тех же эпизодов — продолжили выдающиеся актеры И. М. Москвин, читавший "Мочалку", и В. И. Качалов, исполнявший "Кошмар Ивана Федоровича".
Но инсценировка романа сразу столкнулась с трудностями и осталась сопряжена с ними и по сю пору. Первоначально трудности были не художественного, а цензурного порядка. "Чудовищное преступление отцеубийства, в котором принимают самое деятельное или бессознательное участие трое сыновей, — давал заключение цензор еще в 1881 году, —…не может быть производимо на сцене". В 1885 году цензоры обвиняли "Карамазовых" в том, что "произведение это ложится позорным пятном на русское помещичье сословие"; в 1894–м — что оно порочит русского офицера и лиц, облеченных в монашескую одежду; в 1897–м была подтверждена "полная несостоятельность" книги в цензурном отношении. Да, впрочем, и Максим Горький в 1913 году считал, что постановка "Братьев Карамазовых" — тем более в талантливом исполнении! — не способствует "оздоровлению русской жизни".
И все‑таки 26 января 1901 года в суворинском Малом театре в Петербурге состоялась премьера "Братьев Карамазовых". Несмотря на прекрасное исполнение роли Мити трагическим актером П. Н. Орленевым (который за год до этого играл Митю в постановке Д. А. Вельского в Костроме), спектакль, по мнению всех рецензентов, не удался: у инсценировки "Братьев Карамазовых" оказались не только цензурные сложности.
Самым значительным был спектакль В. И. Немировича–Данченко в Московском Художественном театре в 1910 году. Он, в сущности, задал тон почти всем последующим интерпретациям "Братьев Карамазовых" на российской сцене: бунт сердца, столкновение человечности с бесчеловечной действительностью. Вот почему именно Иван и "мочалка" — Снегирев — стали центрами этих инсценировок. Сам Немирович–Данченко писал о влиянии "Братьев Карамазовых" на театральную традицию, у истоков которой он стоял: "Достоевский создал новую эпоху в жизни Художественного театра. Первая русская трагедия. Спектакль, давший ряд крупнейших актерских побед: Качалов — Иван, Германова— Грушенька, Москвин — Мочалка, Коренева — бесенок, Лужский — Карамазов, Воронов — Смердяков и какой‑то стихией вырвавшийся блестящий Митя — Леонидов, обнаруживший потрясающий трагический темперамент".
Стремление выделить какую‑либо линию книги стало характерной чертой всех постановок "Братьев Карамазовых". В знаменитой инсценировке Ж. Копо и Ж. Круэ, представленной в парижском "Театре искусств" в 1911 году, центром стал Смердяков в исполнении великолепного Ш. Дюллена. В немецкой экранизации К. Фрелиха и Дм. Буховецкого (1920) на первый план вышла любовная линия, что превратило драму идей в мелодраму. Постановка Ф. Комиссаржевского в Лондоне в 1928 году сосредоточилась на разработке детективного элемента. А вот в интерпретации А. Барсака на сцене парижского театра "Ателье" (1946) — первой по–настоящему современной инсценировке, выдержавшей более 220 представлений! — на первый план вышла Грушенька, сыгранная Марией Казарес. Американский фильм Р. Брукса, собравшего в 1957 году актерский ансамбль из звезд мирового экрана, пожертвовал всем ради эффектности и напряженности действия, так что "Братья Карамазовы" оказались чем‑то вроде "русского вестерна". Что же касается советских постановок, то в них центральное место заняло обличение уродливой действительности. МХАТ возобновил "Карамазовых" в 1960 году в постановке Б. Ливанова, сыгравшего Дмитрия. Попытка создать более полную художественную концепцию, уже средствами кино, — трехсерийный фильм И. А. Пырьева, вышедший на экран в 1969 году. В нем сыграл целый ряд замечательных актеров, но потери, которые понесла символика и тонкая идейная ткань романа, оказались невосполнимы. Последующие постановки снова сосредоточились на отдельных линиях, традиционных эпизодах — если не на "Великом инквизиторе", то на "Мочалке", как пьеса В. Розова "Брат Алеша", поставленная в Театре на Малой Бронной в 1972 году.
Так получается, что Карамазовы куда живее и куда более "Карамазовы" на бумаге, чем на сцене или экране, как бы ни были хороши их исполнители. Их судьбы — судьбы книги и судьбы интерпретации книги. И эти судьбы еще далеко не завершились.
Э. Е. ЗАЙДЕНШНУР
"ВОЙНА И МИР" ЗА СТОЛЕТИЕ
Л. Н. Толстой "Война и мир"
"Имеют свои судьбы книги, и авторы чувствуют эти судьбы", — писал Толстой. И хотя он, по его словам, знал, что "Война и мир" "исполнена недостатков", но не сомневался в том, что "она будет иметь тот самый успех, какой она имела". А успех был необычайный. Несмотря на противоречивые отзывы в печати, на резко отрицательные статьи, "Войну и мир" читали "запоем" и о ней спорили в частных кругах настолько широко, что это не могло не отразиться в печати.
"Это наиболее читаемая книга". "О новом произведении графа Л. Н. Толстого говорят повсюду; и даже в тех кружках, где редко появляется русская книга, роман этот читается с необыкновенной жадностью". Четвертый том, с которого начиналось описание войны 1812 года, "все ожидали не просто с нетерпением, а с каким‑то болезненным волнением. Книга раскупается с невероятной быстротой". "Во всех уголках Петербурга, во всех сферах общества, даже там, где ничего не читалось, появились желтые книжки "Войны и мира" и читались положительно нарасхват". Роман составлял тогда "вопрос времени", им была занята "чуть ли не вся русская публика". Так писали газеты.
Спрос на вышедшие тома еще незаконченного романа был настолько велик, что потребовалось второе издание. Осенью 1868 года вышли вторым изданием четыре тома. Нет документальных свидетельств об участии автора в новом издании, тем не менее разночтения, хотя и немногочисленные и не столь существенные, дают право полагать, что это было не механической перепечаткой, что автор читал корректуры. Только он сам мог, например, в разговоре Николая Ростова с Борисом Друбецким реплику: "Политикан, гвардейская штука!" — заменить краткой: "О, гвардия!" — или дополнить портрет Наполеона таким штрихом: "Это дрожанье левой икры Наполеон знал за собой. "La vibration de mon mollet gauche est un grand signe chez moi" [352], — говорил он впоследствии".
Пятый и шестой тома обоих изданий печатались одновременно с одного набора, но часть тиража вышла с пометой на титульном листе: "Второе издание".
Спустя два года после выхода "Войны и мира" Толстой признавался, что похвалы действуют на него вредно, что он "слишком склонен верить справедливости их" и что "с великим трудом только недавно успел искоренить в себе ту дурь", которую произвел в нем успех книги. Исцеление от похвал дошло у Толстого до самоунижения. "Не думайте, чтоб я неискренно говорил, — писал он вскоре, — мне "Война и мир" теперь отвратительна вся! Мне на днях пришлось заглянуть в нее для решения вопроса о том, исправить ли для нового издания, и не могу вам выразить чувство раскаяния, стыда, которое я испытал, переглядывая многие места! Чувство вроде того, которое испытывает человек, видя следы оргии, в которой он участвовал. Одно утешает меня, что я увлекался этой оргией от всей души и думал, что кроме этого нет ничего".
В это время, в начале 1873 года, Толстой готовил к печати третье издание Собрания сочинений, в которое должен был войти роман "Война и мир". В старости Толстой говорил, что он не перечитывает своих напечатанных произведений, а если попадается случайно какая‑нибудь страница, ему всегда кажется: "Это все надо переделать". Так случилось и теперь. "Я боюсь трогать, — говорил Толстой, — потому что столько нехорошего на мои глаза, что хочется как будто вновь писать по этой подмалевке".