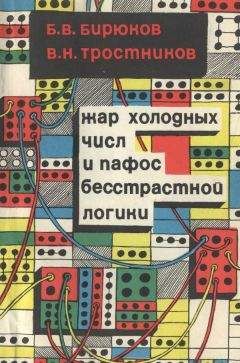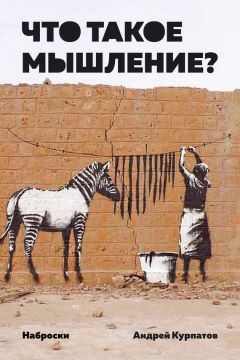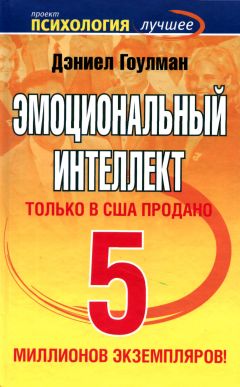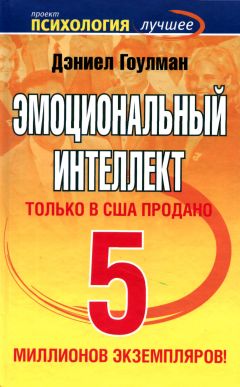Станислав Рассадин - Умри, Денис, или Неугодный собеседник императрицы
И пораженные Простаковы со Скотининым в три голоса подхватывают: «Десять тысяч!»
Посчитаем…
Тысяча с малым душ — это, при нормальном ведении хозяйства, никак не менее 5000 серебром в год. Уже много. Добавим пенсионные 3000. А женино приданое? А наконец, доходы от общего с Клостерманом торгового предприятия?
Много, бесспорно, много; вероятно, не больше, однако и не меньше того, что извлек из своих золотых сибирских приисков Стародум, так что Скотинины-Простаковы вполне могли позавидовать и Денису Ивановичу.
Кстати, не раз было замечено, что Фонвизин совсем не зря удалил любимого героя на прииски и ни словом не упомянул о том, владеет ли он крепостными душами. Предполагалось даже, что в этом сказалось возросшее в писателе отвращение к крестьянскому рабству. Не к крайностям его, но к нему самому — в целом и в принципе.
Первое-то несомненно: разумеется, не зря. Второе — сомнительнее.
Это, скорее, можно было бы предположить в таком открытом враге крепостного права, как Радищев; да и предполагать не нужно. В его «Путешествии», в главе «Любани», рассказчик говорит встречному крестьянину:
«У меня, мой друг, мужиков нет, и для того никто меня не клянет».
Это наилучшая рекомендация.
Сам Фонвизин, как Добролюбов в его «Бригадире», ничуть не стыдился того, что владеет крестьянами; а в сочинениях своих восславлял доброту и заботу помещика как особого рода добродетель в стране, существующей за счет крепостного права. Быть истинным отцом и благодетелем для мужиков — это для него, как позже для Карамзина, даже наиболее прямое и нелегкое выполнение помещиком своего дворянского долга.
Он не одинок среди лучших людей века.
«Мне в особенности приятно и утешительно было жить в нем, — пишет княгиня Дашкова о принадлежащем ей имении Троицкое, — потому что крестьяне мои были счастливы и богаты. Население за сорок лет моего правления им возросло с 840 до 1550 душ. Число женщин увеличивалось еще больше, так как ни одна из них не хотела выходить замуж вне моих владений».
Екатерина Романовна тщеславится, но важно ведь, что является предметом тщеславия. Какая из добродетелей.
Тем более что это отнюдь не норма — опять-таки даже среди не худших.
Гаврила Романович Державин эпически повествует, как он повелел четырех скотниц высечь «хорошенько, при сходе мирском, которые старее, тех поменее, а которые моложе, тех поболее, за то, что они, имея худой присмотр за скотиною… осмелились еще просить меня, чтоб их и от страды уволить, что ничто иное, как сущая леность, которую без наказания оставить не должно».
Андрей Болотов рассказывает, как изощренно истязал своего пьяницу столяра, сек его порциями, «дабы сечение было ему тем чувствительнее, а для меня менее опасно, ибо я никогда не любил драться слишком много». Эта пытка столь взбудоражила сыновей столяра, что один из них пригрозил Болотову зарезать его, а другой сам хотел зарезаться; «будто бы хотел», — пишет гуманный помещик; словом, по его выражению, «они оказались сущими злодеями, бунтовщиками и извергами». За что и были закованы в цепи и посажены на хлеб и воду до покаяния.
«Если так действовал человек, тронутый образованием, — пишет В. Семевский, автор книги „Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II“, — то что же делалось у других помещиков?»
Можно ответить: делалось то, на фоне чего и Болотов и Державин имели основания считать себя отцами крестьян, а свою строгость — отеческой, направленной для блага неразумных детей. Болотов, который «никогда не любил драться слишком много», искренне не понимает, что сам довел «бунтовщиков и извергов» до отчаянного сопротивления. Державин себе кажется прямо-таки добряком: старых ведь приказал сечь поменее!
И Денис Иванович и тем паче Стародум его, освобожденный от забот реального помещика тем уже, что он — литературный персонаж, чья идеальность автором тщательно оберегается, вероятно, сей образ действий не одобрили бы. Даже всенепременно не одобрили бы, хотя и Державин с Болотовым, конечно, были бы возмущены, встретясь с простаковским или скотининским бессмысленным варварством; совсем иное, когда имеешь дело с леностью, «которую без наказания оставить не должно». И все-таки навряд ли Фонвизин послал Стародума на прииски, дабы выказать свое неприятие крепостных порядков.
Дело, думаю, в другом. Стародум — стародум. На него брошен отсвет Петровской эпохи. А с нею и с обликом ее людей больше, чем помещичьи добродетели, связано непосредственное деяние: доблесть солдата, мореплавателя, промышленника. Доблесть, и самому Петру свойственная.
Фонвизин не был злым помещиком. Он был помещиком никудышным.
Крестьянам его от этого — существенного — различия легче не было. Клостерман рассказывал, как замученные арендатором крепостные из белорусского имения бежали в Петербург в поисках защиты. Они хотели наняться рыть канал в Фонтанку и для того просили у Клостермана добыть паспорта.
«Эти бедные люди, — вспоминал жалостливый немец, — без пищи и крова, с смертною бледностью на лицах, едва прикрытые какими-то лохмотьями, шатались, как привидения, по улицам или осаждали мой дом. Надо было иметь каменное сердце, чтобы не чувствовать к ним сострадания. При виде их сердце мое обливалось кровью. Я раздавал им хлеба, платья; а тем из них, которые были в силах работать, доставал паспорты. Но помогать всем ежедневно ко мне приходившим, конечно, недоставало у меня средств. Нанявшиеся рыть канал вскоре стали изнемогать от этой тяжелой работы, ибо с горя и нищеты они походили скорее на мертвецов, нежели на людей».
Зрелище угнетающее…
Да, все понятно: Денис Иванович в это время в Италии; да, в делах он несведущ и маломощен, что и доказал своим разорением; да, он виноват разве что в легкомыслии… Но легкомыслие не порок только тогда, когда речь о себе и о собственной выгоде, — вернее, невыгоде. Тут дело другое.
Тот, кто утверждал, что долг дворянина быть для своих крестьян разумным и добрым отцом, своего долга не исполнил. Он отец беспечный и неразумный.
Между прочим, княгиня Дашкова вовсе не из одного добросердечия старалась быть для своих людей матерью.
— Я, — говорила она Дидероту, — установила в моем орловском имении такое управление, которое сделало крестьян счастливыми и богатыми и ограждает их от ограбления и притеснений мелких чиновников. Благосостояние наших крестьян увеличивает и наши доходы; следовательно, надо быть сумасшедшим, чтобы самому иссушить источник собственных доходов.
Умница!..
Фонвизин же пустил в свое стадо хищника, ничуть не озабоченного тем, чтобы оно плодилось и тучнело. Арендатор Медем рвал жадно и ненасытно — что поделаешь, надо признать, при попустительстве владельца. Всего лишь легкомысленного — одно утешение…
Но и ему самому легкомыслие дорого обошлось. Барон-арендатор не только разорил и ожесточил крестьян, но и потребовал неустойку у самого хозяина. Началась тяжба, требовавшая денег и сил.
Ни того, ни другого уже не было.
Все же больной не оставляет «привычку упражняться в писании». В последние годы им написана комедия «Выбор гувернера» (другое название — «Гофмейстер»), вернее, только начата, но это, надо правду сказать, не тот случай, что с «Мнимым глухим и немым». Судя по отрывку, успевшему явиться в свет, ничего достойного сочинителя «Недоросля» ждать не приходилось, и персонаж с нелегко произносимой фамилией Нельстецов (между прочим, именно ею — Иван Нельстецов — подписал Денис Иванович свою челобитную российской Минерве), вариант Стародума, разве что омоложенного и обтесанного в смысле просвещенности, на этот раз претендовал на роль, которая и прежнему Стародуму была непосильна. Стать центром комедии.
Адам Адамыч Вральман худо учил, да куда более тешил взор и слух, нежели идеальный гувернер Нельстецов.
В 1791 году является «Рассуждение о суетной жизни человеческой», сочинение, в коем автор соревнует славу гениев красноречия, столь недостающих России; тема «Рассуждения», увы, горестна — смерть. Тема все более насущная.
Еще пятью годами прежде сорокадвухлетний Денис Иванович, чуя приближение конца, велел составить духовное завещание и в нем, сочиненном в приличествующем стиле канцеляристом Сергеем Игнатьевым сыном Рыжиковым, просил «на себя принять душеприказчество его сиятельство графа Петра Ивановича Панина».
Вышло, однако, иначе. Граф Петр Иванович предупредил Фонвизина «отданием долгу своего натуре», как «изражается» все та же духовная: проще сказать, скончался прежде младшего приятеля, в 1789 году. И то была еще одна душевная потеря. Тягчайшая.
Что до «Рассуждения о суетной жизни», то оно-то написано на кончину не друга, а скорее, противника, светлейшего князя Потемкина. И может быть, именно оттого Фонвизин не слишком-то удачно состязается со знаменитыми риторами, оставаясь в кругу официального красноречия… пока не заговорит о суетности жизни собственной. И эти строки поражают если не высотою словесного искусства, то глубиною покаяния и самоуничижения: