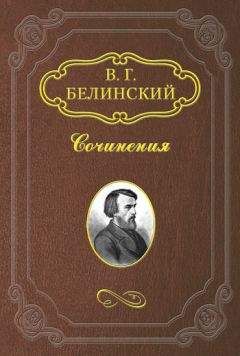Бенедикт Сарнов - Маяковский. Самоубийство
В общем, собралась компания хорошо одетых и обутых и хорошо, видать, обеспеченных советских граждан.
Ну, как водится, пообедали, а после обеда пошли по лесистым дачным местам «живот разминать», как изящно выразился по этому поводу поэт.
А дальше события развивались так:
Вверху
зеленеет
березная рядь,
и ветки
радугой дуг…
Пошли
вола вертеть
и врать,
и тут —
и вот —
и вдруг…
Обфренчились
формы
костюма ладного,
яркие,
прямо зря,
все
достают
из кармана
из заднего
браунинги
и маузера.
Ушедшие
подымались года,
и бровь
по-прежнему сжалась,
когда
разлетался пень
и когда
за пулей
пуля сажалась.
В общем, сытым и довольным гостям захотелось вдруг побаловаться, пострелять, испытать свою меткость. Случай, что говорить, занятный и даже, может быть, наводящий на некоторые размышления. Но, как выразился в свое время князь Петр Андреевич Вяземский о стихотворении своего друга А. С. Пушкина «Клеветникам России», — «Нет тут вдохновений для поэта».
Поэт, однако, нашел в этой сцене повод для поэтического вдохновения:
Поляна —
и ливень пуль на нее,
огонь
отзвенел и замер,
лишь
вздрагивало газеты рванье,
как белое
рваное знамя.
Но самое интересное тут — финал стихотворения. Тут в голосе поэта звенит уже не просто вдохновение, но, как выразился бы тот же Петр Андреевич Вяземский, «пиитический восторг»:
Компания
дальше в кашках пошла,
револьвер
остыл давно,
пошла беседа,
в меру пошла.
Но —
Знаю:
революция
еще не седа,
в быту
не слепнет кротово, —
революция
всегда,
всегда
молода и готова.
Вывод, мягко говоря, несколько неожиданный.
Ну, захотелось мужикам пострелять. Стреляли, видать, хорошо, метко, глазомер не подвел их: всю газету изрешетили пулями. Постреляли — и дальше пошли «живот разминать», «вертеть вола и врать»… Повод ли все это для такого пафосного вывода?
Я бы даже сказал, что не только для пафоса, но даже и для самого смысла этого вывода нет тут особых оснований. Из логики всего этого, по правде сказать, совсем незначительного и не слишком даже интересного эпизода вывод, что «революция еще не седа», вроде никак не вытекает.
На самом деле, однако, своя, внутренняя, подспудная логика тут у Маяковского есть. И логика эта — совсем другая. Противоположная той, которую я тут пытался найти.
Эта внутренняя, подспудная логика сродни той, которая с наибольшей выразительностью проявилась в другом, более раннем стихотворении Маяковского — «Мы не верим», написанном и напечатанном в марте 1923 года:
Темью истемня весенний день,
выклеен правительственный бюллетень.
Нет!
Не надо!
Разве молнии велишь
не литься?
Нет!
Не оковать язык грозы!
Вечно будет
тысячестраницый
грохотать
набатный
ленинский язык.
Так оно начиналось.
А вот как заканчивалось:
Разве жар
такой
термометрами меряется?!
Разве пульс
такой
секундами гудит?!
Вечно будет ленинское сердце
грохотать
у революции в груди.
Нет!
Нет!
Не-е-т…
Не хотим,
не верим в белый бюллетень.
С глаз весенних
сгинь, навязчивая тень!
Первый правительственный бюллетень о состоянии здоровья больного Ленина появился 12 марта 1923 года. И с этого дня такие бюллетени печатались ежедневно. Сопровождались они обычно такими обнадеживающими комментариями:
► Наш Ильич заболел… Для того, чтобы он снова встал в строй, он должен на время совсем отойти от работы. Ильич снова будет с нами!
(«Красноярский рабочий», 7 апреля 1923 года)Врачебные прогнозы, быть может, были не столь оптимистичны. Но как бы то ни было, до смерти Ленина, которая случилась, как известно, в январе 1924 года, оставалось еще десять месяцев.
Но истерическое «Не-е-т!» Маяковского яснее ясного говорило (кричало!), что Ленин умирает. Может быть, даже уже умер.
Вот и в стихотворении «Дачный случай» — весь эмоциональный смысл его, вопреки тому смыслу, который несут в себе заключающие его слова, яснее ясного твердит: революция дряхлеет, умирает. Может быть, даже уже умерла, каковы бы ни были эти ребята с браунингами и маузерами в задних карманах своих хорошо сшитых английских пиджаков.
Откуда, кстати, у них эти браунинги и маузеры? И вообще, кто они — эти гости, приехавшие к Маяковскому на ту самую дачу в Пушкино, куда восемь лет назад к нему «на чай» заглянуло Солнце?
На этот раз, в отличие от того случая, история нам рассказана не выдуманная, а вполне реальная. И гости, надо полагать, были вполне реальные, не выдуманные.
У Асеева, Пудовкина, Наты Вачнадзе, Виктора Шкловского, Михаила Левидова и других друзей-приятелей Маяковского, которые могли бы оказаться его гостями на той даче, никаких браунингов и маузеров в задних карманах быть не могло.
Так кто же они были, эти его тогдашние гости? Скорее всего — его приятели-чекисты: Агранов, Горожанин, Волович, Эльберт…
ГОЛОСА СОВРЕМЕННИКОВНас провели на грязный двор внутренней тюрьмы, Лубянки 2. Я ждала очереди около дощатой уборной и, подняв голову, смотрела на небо, его не видно было из окна нашей камеры…
Часа в четыре меня вызвали на допрос. Мучила жажда.
В мягком кожаном кресле сидел самодовольный, упитанный следователь Агранов.
Это был уже мой второй допрос.
В первый раз Агранов достал папку бумаг и, указывая мне на нее, сказал:
— Я должен вас предупредить, гражданка Толстая, что ваши товарищи по процессу гораздо разумнее вас, они давно уже сообщили мне о вашем участии в деле. Видите, это показания Мельгунова, он подробно описывает все дело, не щадя, разумеется, и вас…
— А ведь это старые приемы, — перебила я его, — эти самые приемы употреблялись охранным отделением при допросе революционеров…
Агранов передернулся.
— Ваше дело, я хотел облегчить участь вашу и ваших друзей.
— Вы давно в партии, товарищ Агранов? — спросила я.
— Это не относится к делу, а что?
— Вас преследовало царское правительство?
— Разумеется, но я не понимаю…
— А вы тогда выдавали своих близких для облегчения своей участи?
Он позвонил.
— Отвести гражданку в камеру. Увидим, что вы скажете через полгодика…
В этот раз я также отказалась ему отвечать. Нахмурилась и молчала.
— Что это, гражданка Толстая, вы как будто утеряли свою прежнюю бодрость?
Меня взорвало.
— А вам известно, что в тюрьме нет ни капли воды, что заключенных кормили селедкой?
— Вот как? Неужели?
Но я поняла, что он об этом знает.
— Ведь это же пытка, ведь это…
— Стакан чаю, — крикнул Агранов, — не угодно ли курить? — любезно придвинул он мне прекрасные египетские папиросы.
— Я не стану отвечать. Неужели нельзя послать воды хоть в ведрах заключенным? — стоявший передо мной стакан чая еще больше разжигал бессильную злобу.