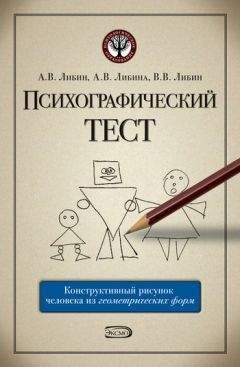Нина Меднис - Венеция в русской литературе
…Я создал свое море. Отныне оно лишь часть моей души, как ничтожной частью Божьей души является дольний мир. Теперь-то я в состоянии оглянуться и взглянуть на то, что у меня за спиной, — но не вижу в том необходимости… Похоже, я сумею без содрогания посмотреть в лицо жизни. И пусть невежды продолжают считать искусство моря бессмысленным, — будущее за теми, кто овладел lуart de mer, кто хранит в душе нерасплесканное величие моря с его адом и раем, за теми, кто постиг великое искусство сидеть спиной к тому, что у них за спиной…» (46–47)[259].
Так же и с Венецией. Она нерасплесканной живет в душе героя. Лабиринт венецианских каналов и улиц воплотился в лабиринте залов, комнат, лестниц палаццо Сансеверино, а эквивалент собора св. Марка — треугольная комната с чашей Дандоло. Движение к чаше — это освоение Венеции. Не случайно и в снах Ермо дом отмечен символом св. Марка — крылатым львом: «Быть может спасаясь от Белого карлика, от страшного матушкиного носа с красными пятнышками — следами от пенсне, он научился занимать сны строительством огромного, бесконечного дома. Поначалу удавалось увидеть только фасад, стены, фронтоны, он никак не мог проникнуть внутрь, но однажды со скрипом, с визгом и ржавым хрипом отворились золотые ворота, украшенные роговыми пластинами с изображенными на них единорогами, драконами и прекрасными, как лошади, женщинами, и он вошел под арку во внутренний дворик, в глубине которого смутно белела каменная крылатая фигура…» (26).
Разрастаясь в своем значении, дом Сансеверино становится для героя моделью мира в целом, как прообразом мира является и Венеция, соединившая в себе всё. Но этот сложный мир нуждается в средоточии, в сердце, которое вносит упорядоченность, и в сознании героя утверждаются два взаимосвязанных и взаимоотраженных центра — он сам и прекрасный византийский потир, чаша Дандоло, ибо «через искусство возникает то, форма чего находится в душе» (31).
Важно здесь именно существование двух центров, поскольку семантика и соотношение единицы и двойки оговорены в романе с учетом его сюжетной устремленности: «Любопытно, что в самой глубокой древности число 1 использовалось редко, оно означало целостность, единство и совершенство, свойственные лишь богу или космосу. Размышление о единице разрушает целостность, нерасчленимость мира, порождая двойку, символизирующую противопоставление, разделение и вместе с тем связь. Если единица — покой абсолюта, не-жизни, то двойка — начало творческого акта, движения, уход от небытия, не-жизни, однако уход, не позволяющий забывать о покинутом совершенстве» (39).
Чаша Дандоло до определенного момента обладает некой волей отдельности: «В свой кабинет он мало-помалу перетащил все, что представляло для него какую-то ценность. Единственное, что осталось на своем месте, — чаша… Ради нее старик отважно проделывал неблизкий путь — спускался во второй этаж, пересекал бескрайнее поле паркета… и уединялся в комнате с высоким потолком, где вот уже сто — или двести, или триста — лет на столике перед старинным зеркалом стояла чаша Дандоло» (23).
Показательно, что чаша помещена в центре шахматного столика, как «единственная уцелевшая фигура некой игры, о которой он ничего не ведал — ни о ее правилах, ни о сюжете, ни, наконец, о результате» (26). Являясь вторым центром Дома-Венеции-Мира, чаша по-своему организует окружающее. Она — фигура особая, активная, наделенная субъектностью и своим языком: «Кончиками пальцев он касался холодного серебряного бока, легко пробегал по полустертой надписи на ободке. На каком языке? Быть может на том самом, на котором он говорил, изумляя и пугая близких, пока его не крестили?» (26) Этот забытый Ермо язык вдруг восстанавливается в момент смерти героя, соединения его с чашей, в момент превращения двойки в единицу. А на всем долгом пути, пролегающем между встречей с чашей, первым предощущением ее и конечным соединением с ней звучит другой язык — язык художника: Als Ob для Ермо, шахмат — для Набокова, ибо «шахматы — метафора той новой реальности, в которой в полном одиночестве путешествовал Набоков… Эта новая реальность — условность второго или даже третьего порядка — в сравнении с условностью языка, нематериальная субстанция которого и является Домом писателя, его родиной, колыбелью и могилой» (78).
Однако путь к этой нематериальной субстанции пролегает через субстанцию материальную, эмпирическую. Потому, по словам Ермо, художник — это человек, переживающий «внутренний драматический конфликт между обыденной, заурядной личностью, каковой он является, и собственно художником, жертвующим всем индивидуальным, обыденным, заурядным ради творчества» (39). Словом,
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон…
Художник — это, по наблюдению героя, «Господин Между». Казалось бы, банальность этого суждения в конце ХХ века очевидна, но в контексте романа «Ермо» оно обретает особое значение. «Между» — это та межа, тот излом, который порождает удвоение всех сущностей, поворачивающихся то материально-эмпирической, то идеально-метафизической стороной. В результате в романе существуют две Венеции, два палаццо Сансеверино, две чаши, две Софии.
Последнее звено очень важно для постижения семантики мотива чаши. Все, что связано с Софией-Софьей, имеет, как и прочие удвоения, два полюса: на одном святая София, из константинопольского храма которой была взята чаша, на другом — Агнесса Шамардина, в некой крайней сущности представленная на картине художника Игоря как «Женщина, жрущая мясо». Эти несомненные противоположности неразрывно связаны друг с другом, и между ними, как между двумя зеркалами, располагается, отражаясь в обоих, первая любовь и жена Ермо, прекрасная рыжуха Софья Илецкая. Все три ипостаси равно необходимы в романе, и потому вряд ли прав Н. Елисеев, удивляющийся безвкусице Ермо, писателя, «равного по таланту Бунину и Набокову»[260]. На пути к постижению целостности, единства, на пути к единице не должно отрекаться от кричащей материальности. Путь здесь может быть один, по-пушкински:
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Путь к единице, к слиянию с чашей в вечности, в безвременьи Венеции и Дандоло («Разница между художником и всеми остальными заключается, наверное, в том, что художник бросает вызов вечности, тогда как остальные стремятся обороть время…» (78)) состоит в обретении мудрости, Софии, которая открывается по мере приятия противоположностей бытия. Это точно почувствовала Агнесса Шамардина своей древней сущностью Ависаги Сунамитянки, когда заметила Ермо: «Русский человек сильно мечтает сказать всему „да“, но назло себе говорит „нет“. А у вас — только „да“» (86). Материальным выражением этого «да», символом целостности и является в конечном итоге чаша Дандоло, «Pith of House — pith of heart». Не переставая быть вещью, она в своей сакральности становится подобной иконе: предмет и не предмет одновременно, а как потир чаша отмечает высшую точку литургии — причастие, то есть причастность к жертве Христа, к Богу. Поэтому трепетные свидания героя с чашей всегда приобретают характер моления о чаше: «Свидания с нею бывали не каждый день. Иногда, уже дойдя до двери заветной комнатки, он вдруг передумывал и возвращался в кабинет. Что-то должно было случиться, чтобы час-другой наедине с чашей стал полно прожитым временем» (23).
Моление это включается в выработанный годами ритуал с множеством остро ощущаемых необходимых деталей: «Ключ от треугольной комнатки он не доверял никому, даже Фрэнку. Иногда на него находило, и он среди ночи вскакивал и отправлялся на свидание, волнуясь и сжимая ключ в кармане халата. Он ступал осторожно, чтобы не разбудить прислугу, словно тать. Слабо освещенный дом казался огромным аквариумом, в глубинах которого дремали чудовища. Дверь в зал открывалась бесшумно, но вот старый паркет поскрипывал, словно молодой лед. Громко — смазывай не смазывай — щелкал замок, с хрустом переламывая ключ. Наконец с шипеньем загоралась спичка, лихорадочно выхватывая из темноты и удваивая в зеркале обрывок руки, низ лица, чашу, подсвечник. Рядом с шахматным столиком всегда стояла бутылка-другая и стакан. Налив вина, он вытягивался во весь рост со скрещенными ногами в низком кресле, закуривал. Здесь можно было просто спокойно посидеть, ни о чем не думая. Да, о чаше было необязательно думать. Рано или поздно она сама собой вплывала сначала в поле зрения, а затем и в мысли, словно пытаясь придать всему свою форму, и всякий раз с усмешкой вспоминал Аристотеля: через искусство возникает то, форма чего находится в душе» (25–26).
Момент с вплывающей в поле зрения чашей напоминает описанное В. В. Розановым восприятие Дворца дожей и собора св. Марка: «Нужно было или в яркое утро, или в пустынную молчаливую ночь выйти на площадь и, остановясь в 3/4 ее длины, т. е. не подходя близко к св. Марку, — или сесть где-нибудь на каменные плиты, если была ночь, или, если это было утро, — спросить себе на столик кофе; и, не смотря прямо на главную красоту, так сказать, дышать этой площадью, ничего особенного не думать, не вспоминать истории и время от времени нечаянно взглядывать вперед, в направлении Марка и дворца. Все преднамеренное нехорошо. Тогда в ваше непреднамеренное ленивое дремание и Марк, и дворец входили незаметно и становились куда нужно. Через несколько времени седина этого места, удивительная его архитектурность, непосильная личному гению и доступная только гению времен, начинала в вас действовать. И минутами сердце наполнялось прямо восторгом и счастьем» (221).