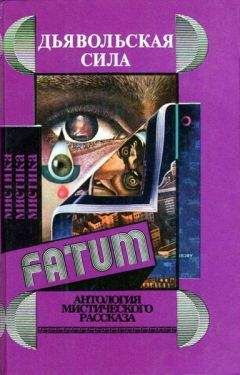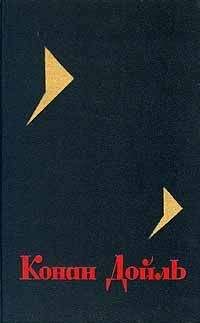Николай Скатов - Русский гений
Можно было бы сказать, что и героем времени был романтик. Уже о герое первой пушкинской поэмы «Кавказский пленник» Белинский сказал: «Пленник — это герой того времени... Молодые люди особенно были восхищены им, потому что каждый видел в нем, более или менее, свое собственное отражение... И Пушкин был сам этим пленником, но только на ту пору, пока писал его». Потому же герои времени, романтики, молодежь так восторженно встретили пушкинскую поэму. Впрочем, более проницательная критика и вскоре последовавшая авторская самокритика отметили противоречивость героя как невыдержанность характера.
Действительно, глядя от зрелого Пушкина, автора «Цыган» и «Онегина», особенно ясно видишь, сколь характер еще не прояснен и суммарен, лишь намечен, приметы сколь разных психологических, явлений в нем совмещены: если обратиться к позднейшему роману,— Онегин и Ленский — «волна и камень, стихи и проза, лед и пламень», по пушкинскому об этих героях слову. Впрочем, это даже не столько два разных психологических явления, сколько два разных этапа в развитии одного явления, две его стадии, две фазы его становления. Но для того, чтобы их развести, противопоставить и вполне оценить, необходим был рубеж в эволюции самого поэта. Сам Пушкин должен был пройти искус подлинного разочарования и сомнения.
Был кризис перехода от детства к юности, был кризис перехода от юности к молодости, приближался третий — и один из самых драматичных — кризис перехода от молодости к зрелости. Впрочем, взгляд на «Кавказского пленника», брошенный от зрелого пушкинского творчества, позволяет увидеть не только незрелость, молодость этого произведения, но и залоги будущего развития, грядущей зрелости. Они в сравнительной неоднозначности героя романтической поэмы, который, по сути, уже не укладывается в ее рамки. Традиционный романтический герой байроновского типа определялся господствующим и даже всепоглощающим субъективным началом. В пушкинском герое такое начало есть («в нем есть стихи моего сердца»,— заметил сам поэт), но оно не оказалось единственным: «Характер Пленника неудачен; доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения». Изображение героев в романтической поэме у Пушкина уже заключало в себе возможность его изображения в романе. «Характер главного лица (а действующих лиц — всего-то их двое) приличен более роману, нежели поэме»,— писал Пушкин в наброске письма Н.И.Гнедичу в 1822 году, то есть в пору, когда работа над поэмой была далеко позади и приближалась работа над романом. Разрушается в поэме и единодержавие героя и не только потому, что подлинно героичной оказывается не мужчина — пленник, а черкешенка — женщина.
Уже здесь то, что сам Пушкин назвал верностью «местных красок», во многом и определило характер отмеченного четкой печатью историзма эпилога и позволило избежать руссоистских иллюзий и идеализации первобытной вольности при всем внушаемом ею сочувствии.
В целом же вольнолюбивые взгляды юного Пушкина получили у Пушкина молодого продолжение и углубление.
Конечно, вся атмосфера декабристского юга, в которой оказался Пушкин, этому помогала. Тем не менее хронология и характер развития свидетельствуют о самостоятельности Пушкина.
Во-первых, следует говорить об усиливающемся с каждым годом историзме. Недаром к 1822 году относится и первая собственно историческая его работа «Заметки по русской истории 18 века» (название условно — введение в записки, которые были Пушкиным позднее уничтожены). В связи с углублением историзма чувство свободы и вольности впервые, по сути, начинает объединяться с идеей народа, взятого уже отнюдь не в абстрактном его виде: ведь «скованные галлы» в «Вольности» не более французы, чем «измученные рабы» в «Деревне» — русские. В стихотворении 1822 года «Узник» нет народа, но выраженную в нем тоску о воле народное сознание приняло как свою и закрепило это стихотворение в виде народной песни. Симптоматична и попытка создания «Братьев-разбойников». События 1823 года, в частности утверждавшаяся в Европе реакция, помогли осознать драматическое противоречие: разобщение начал свободы и народной жизни. Соединяясь с настроениями глубокой внутренней разочарованности, оно рождало универсальное отрицание — демонизм. Именно такое отрицание представляли стихи 1823-го года «Бывало, в сладком ослепленье», тематически они продолжатся и окончательно оформятся в стихотворении «Свободы сеятель пустынный»:
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
«Демонические» ноты впервые прозвучали у Пушкина еще осенью 1822 года в письме брату Льву: «Тебе придется иметь дело с людьми, которых ты еще не знаешь. С самого начала думай о них всё самое плохое, что только можно вообразить: ты не слишком сильно ошибешься. Не суди о людях по собственному сердцу, которое, я уверен, благородно и отзывчиво и, сверх того, еще молодо; презирай их...» и т.д.
Окончательную формулу отрицания даст стихотворение 1823 года, так и названное — «Демон»:
...Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осеня,
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.
На переходе от молодости к зрелости Пушкин переживал демонизм, переболел им. Позднее он укажет на «Демона» именно как на естественную и неизбежную примету такой переходности и расставания с молодостью: «В лучшее время жизни сердце, еще не охлажденное опытом, доступно для прекрасного. Оно легковерно и нежно. Мало-помалу вечные противуречия существенности рождают в нем сомнения, чувство мучительное, но не продолжительное. Оно исчезает, уничтожив навсегда лучшие надежды и поэтические предрассудки души». Но, переживая демонизм как состояние возрастное и потому «непродолжительное», Пушкин вместе с тем открывал «в сжатой картине» совершенно новую социально-философскую сферу для русской литературы, а через два года, указывая на «Фауста», смело соотнес свое стихотворение и с литературой мировой:
«...Иные даже указывали на лицо (А. Раевского.— Н.С.), которое Пушкин будто бы хотел изобразить в своем странном стихотворении. Кажется, они неправы, по крайней мере вижу я в «Демоне» цель иную, более нравственную... Недаром великий Гете называет вечного врага человечества духом отрицающим. И Пушкин не хотел ли в своем Демоне олицетворить сей дух отрицания или сомнения, и в сжатой картине начертал отличительные признаки и печальное влияние оного на нравственность нашего века». Всего через пять лет пушкинская «сжатая картина» начнет развертываться: юный, действительно уже «до времени созрелый» поэт обратится к демону и обречется ему на долгие годы, собственно на всю свою недолгую жизнь. Впрочем, образ Демона страдающего свяжет его с глубокой нравственностью именно пушкинского гуманизма.
Только пережив кризис 1823 года, Пушкин смог в 1824 году закончить еще в 1822 году начатых «Цыган» и произнести окончательный суд над героем высоким, «байроническим», «гордым» человеком (ср. у Пушкина же: «Байрон — гордости поэт») и сказать о юношеском прекраснодушии руссоизма — и сделать все это на собственно романтической почве. Потому-то зрелый Пушкин и пишет романтическую поэму — это романтическая поэма, написанная уже не романтиком.
В ней глубочайшим образом уже вскрыты отношения человека и общества, героя и мира, характера и среды. В 1839 году Белинский, сам к этому времени глубоко прочувствовавший и понявший их, писал: «Алеко Пушкина поссорился с обществом и думал навсегда избавиться от него, пристав к бродячей толпе детей природы и вольности; но общество и там нашло его и страшно отомстило ему за себя через него же самого». При этом Пушкин ни на минуту не поступился ни поэзией порыва, ни идеалом свободы, ни идеей ухода. Наоборот, может быть, никогда они еще так сильно не звучали у Пушкина.
Критика почти неизменно сводила смысл поэмы к образу Алеко, еще начиная с Белинского («Идея «Цыган» вся сосредоточена в герое этой поэмы — Алеко»), а молодой Рахманинов назвал «Алеко» свою оперу. Но Пушкин-то недаром назвал ее «Цыганы». Нимало не обольщаясь по-руссоистски насчет «счастья» первобытной жизни, он увидел там вольницу извечную, коренную, с одной стороны, восходящую чуть ли не к библейским временам, с другой — прививавшуюся к русской жизни нового времени, часто в виде своеобразного исхода. Так открывалась тема, которая отзовется на Западе (Мериме), продолжится как русское цыганство у Аполлона Григорьева и Александра Островского, у Льва Толстого и Александра Блока.