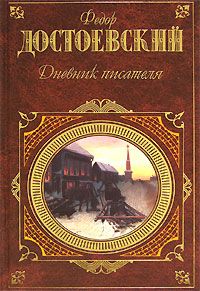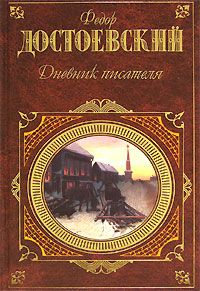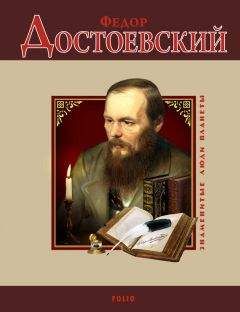Самуил Лурье - Такой способ понимать
сквозь слезы умиления настаивал Пастернак (36-й год) —
И если, зайду вперерез,
Пальнет зимой по лесосекам,
Ему, как всем, ответит лес.
Какое же имя Ему, после этого, под стать? Гений — в данном случае неполное слово, гениален бывает и философ, и поэт, — а в одной галактике с Ним, при одной мысли о Нем самый большой художник чувствует себя беспомощней девы гарема, трепещущей от подступающего восторга:
И этим гением поступка —
вот это хорошо. Гений поступка. Хорошо. —
Так поглощен другой, поэт,
Что тяжелеет, точно губка,
Любою из его примет.
Как в этой двухголосной фуге
Он сам ни бесконечно мал,
Он верит в знанье друг о друге
Предельно крайних двух начал…
Противостоять обаянию такого беззаветного безумия — должно быть, невозможно…
Имеется немало свидетельств, что Булгаков, именуя мастером того, чьим внутренним голосом озвучено в каждый данный момент устремление человеческой истории к ее невидимому, но явственному смыслу, — считал таковым себя. В мечтах он добровольно уступал Сталину эту роль, самоотверженно соглашаясь ограничиться уделом художника. Разве не вправе он был надеяться, что жертва будет оценена, что рано или поздно у Принца достанет благородства обласкать Нищего?
Вы несете для нас королевское бремя.
Я, комедиант, ничтожная роль.
Но я славен уж тем, что играл в твое время,
Людовик!.. Великий!!..
Французский!!!
Король!!!
В те самые дни, когда Булгаков раздумывал: не возвести ли гения поступка в сан мастера, Надежда Мандельштам трудилась над заявлением в органы. Отчаянно и бесстрашно заступалась за мужа, арестованного вторично и навсегда, не зная, что он уже три недели как зарыт в общей яме за оградой лагеря. В частности, она советовала соратнику вождя — товарищу Берии:
«… проверить, не было ли чьей-нибудь личной заинтересованности в этой ссылке.
И еще — выяснить не юридический, а скорее моральный вопрос: достаточно ли было оснований у НКВД, чтобы уничтожать поэта и мастера в период его активной и дружественной поэтической деятельности».
Это было отступление. Воротимся к сюжету.
Если Мастер и назвал виновника постигшей его катастрофы, то одному лишь Ивану Бездомному — причем шепотом, на ухо, по секрету от нас и даже от автора — такой вот прием.
Но кое-что в его рассказе намекает на истинный ход событий — и не вяжется с примитивной гипотезой Алоизия — Азазелло, с гипотезой жилищно-бытового доноса. Прежде всего — сам Алоизий не вяжется.
Недаром в покоях сатаны Мастер ведет себя так, словно предъявленного ему очумелого выжигу в кальсонах и в кепке — видит впервые. Этот Могарыч действительно не имеет ничего общего с его другом Алоизием — обаятельным журналистом, о котором не далее как прошедшей ночью в клинике Стравинского было сказано: «Понравился он мне до того, вообразите, что я его до сих пор иногда вспоминаю и скучаю о нем». До того понравился, — добавим от себя, — что уговорил Мастера прочитать ему роман о Понтии Пилате — и дослушал весь, от корки до корки, тем самым выказав гражданское мужество или, по крайней мере, неподдельную, как и предполагал Мастер, страсть к художественной литературе.
Ведь чтения эти шли под непрерывный аккомпанемент политической анафемы, со всех амвонов отлучавшей роман и автора от государственного образа мыслей.
По этому поводу в клинике Стравинского тоже обронено как бы мимоходом и ненароком несколько слов, приоткрывающих подоплеку сгубившей Мастера интриги — верней, распорядок действий.
Вот это место:
«Статьи не прекращались. Над первыми из них я смеялся. Но чем больше их появлялось, тем более менялось мое отношение к ним. Второй стадией была стадия удивления. Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне все казалось, — и я не мог от этого отделаться, — что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим. А затем, представьте себе, наступила третья стадия — страха».
Темные, многозначительные фразы. О смысле оставалось бы только гадать, если бы Мастер не пережил чего-то подобного в другом эпизоде, ближе к концу:
«Он стал присматриваться к Азазелло и убедился в том, что в глазах у того виднеется что-то принужденное, какая-то мысль, которую тот до поры до времени не выкладывает. „Он не просто с визитом, а появился он с каким-то поручением“, — думал мастер.
Наблюдательность его ему не изменила».
Как мы помним, поручение, данное демону, состояло в том, чтобы умертвить Мастера и его подругу. В мыслях Азазелло они оба уже кончились. Обращаться с ним и с нею, как с живыми людьми, значило притворяться (какой бы ни предстоял эпилог).
Очевидно, что и в газетных инвективах фальшь тоже не померещилась Мастеру, и означала она, внезапно проступив, то же самое: что с определенного момента он в неминуемой опасности, а скорее всего приговорен и тратить на него слова и время нелепо.
Не исключено, что Мастер различил эту мучительно-тревожную фальшивую ноту с опозданием, что она звучала и в самых первых, будто бы потешавших его рецензиях Аримана, Лавровича, Латунского, еще какого-то Н. Э.
Но остается фактом: дуновение опасности — истолкованное как приступ необъяснимого страха — Мастер почувствовал в те самые дни, когда у него завелся друг по имени Алоизий: «прошел в дом по какому-то делу к моему застройщику, потом сошел в садик и как-то очень быстро свел со мной знакомство…»
Можно ли сомневаться, что совпадение не случайное? Что в эти осенние дни никто из чужих, кроме штатного сексота, ни за какие коврижки, ни ради самой шикарной в мире ванной комнаты не решился бы добровольно, без приказания, чаевничать с Мастером и слушать его роман.
Мастера странная аранжировка газетного лая удивила, — судя по всему, прежде он читал газеты не часто, — но сведущий современник, уловив подобную пугающую странность, смекнул бы, что решение о Мастере принято, и решение беспощадное, и принято на такой высоте, до которой сигналы заурядных сексотов, даже самых обаятельных, — не доносятся.
Консилиум состоялся, день операции назначен, а дело сексота — пока пациенту прописан амбулаторный режим, навещать его на дому, заполнять историю болезни…
Кстати о болезни. Мастер определенно старается внушить соседу по сумасшедшему дому, что заболел еще до ареста и что, в сущности, не тюрьма его сломила, а душевный недуг, развившийся под влиянием несправедливых нападок на его первую публикацию. Даже можно было бы заподозрить, что кой-какие обстоятельства — изложенные, кстати, скороговоркой — словно нарочно придуманы для того, чтобы подчеркнуть безукоризненную работу органов: да, забрали, проверяя сигнал, — но, установив невиновность, тотчас — через полгода — отпустили, ну, а в клинику Мастер явился по собственному желанию, и тут ему уютней, чем где бы то ни было… Можно было бы заподозрить — если бы не лицо Мастера, когда неслышным шепотом он рассказывает Иванушке про свой арест и заключение:
«Судороги то и дело проходили по его лицу. В глазах его плавал и метался страх и ярость».
Тут нельзя не припомнить, чту сделали на первых же допросах с Мандельштамом, Заболоцким, Бенедиктом Лившицем, Хармсом… Палачи, подобно красавицам, шутя сводят поэтов с ума.
Но вслух заявлено: «стадия психического заболевания» наступила еще за неделю, а то и за две недели до ареста — недаром встревоженная Маргарита Николаевна умоляла бросить все и уехать на юг. (Правда, тут же, в скобках, вскользь: «что-то подсказывало мне, что не придется уехать к Черному морю».) По сути дела, нам сообщают, что тюрьма — тюрьмой, донос — доносом, а сокрушил Мастера самый первый удар — удар критики.
Вполне ли правдоподобно? Какие-то две-три недели оскорблений и угроз — и все, и помешался? А как же другие писатели: Ахматова, Пастернак, Булгаков и еще очень многие — разве не годами, не десятилетиями у позорного столба выстрадали они свои неврозы и мании? Две дюжины разносных — доносных — статей, подумаешь! Разве Булгаков не вклеил в специальный альбом штук триста?
Возможно ли в короткий срок заплевать человека насмерть? Даже ядовитая слюна убивает лишь при укусе или — отвратительная мысль — при поцелуе, а партийно-полицейская критика слишком бездарна, чтобы принимать ее так близко.