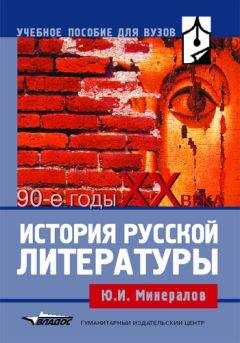Коллектив авторов - История русского романа. Том 1
Таким же образом и в «Капитанской дочке» вводится в ткань романа его главный исторический герой — Пугачев: в виде неизвестного бродяги, человека, подозрительного в глазах молодого дворянина Гринева. Такой метод вхождения истории в частную жизнь вымышленного героя имеет в данном случае двоякий смысл: с одной стороны, исторический деятель показывается сначала «домашним образом» (по выражению Пушкина), чтобы потом явиться вновь, уже во всем его историческом значении, между тем как связь его с рассказчиком, имеющая такое определяющее влияние на сюжет, уже установлена; с другой стороны, и это главное, сам этот исторический герой (Пугачев) вырастает в ходе романа из полубро- дяги — полуразбойника в крупного деятеля, вождя, организатора масс, полководца; в этом — один из важнейших элементов пушкинской концепции, и к нему придется еще вернуться.
Простота и естественность сочетания вымышленных элементов романа с историческими облегчаются в «Капитанской дочке» тем, что она построена как записки о своей жизни свидетеля и участника изображаемых событий, так же как и некоторые романы Вальтера Скотта, притом наиболее близкие по конструкции к «Капитанской дочке» («Уэверли», «Роб — Рой», «Редгоунтлет» и пр.). Сам по себе этот литературный прием был не нов: он широко применялся писателями XVIII века, особенно политическими и сатирическими, скрывавшимися за условным, отвлеченным образом мемуариста для выражения своих взглядов. Ново у Вальтера Скотта и у Пушкина было то, что мемуаристом — рассказчиком выступил реальный человек, представитель определенной эпохи и определенной общественной среды, воспринимающий жизнь с позиций своей среды и своего времени.
Мемуарная форма романа позволяла Пушкину дать изображение крестьянской войны и ее вождя Пугачева с точки зрения мемуариста — офицера правительственных войск Гринева, поставленного в особые, своеобразные отношения к Пугачеву, т. е. давала Пушкину возможность говорить о нем и обо всем восстании с известной свободой и формальной незаинтересованностью. Но вместе с тем мемуарная форма требовала от романиста действительно точного и правдивого изображения личности рассказчика — его психологии, его мнений, его восприятия окружающей действительности и его манеры рассказывания. Историческая правдивость персонажей романа и особенно его стержневого персонажа — мемуариста — рассказчика — была для Пушкина непременным условием исторического повествования и критерием для суждений о его достоинствах или недостатках. Эти требования Пушкин изложил в рецензии на «Юрия Милославского» М. Н. Загоскина,[243] где, указывая на влияние Вальтера Скотта, который «увлек за собой целую толпу подражателей», дал четкую формулу сущности исторического романа: «В наше время под словом роман[244] разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании». Но подражатели В. Скотта, не справившись с вызванным ими «демоном старины», нарушают основной принцип исторического повествования: «В век, в который хотят они перенести читателя, перебираются они сами с тяжелым запасом домашних привычек, предрассудков и дневных впечатлений», т. е. переносят на изображаемую ими эпоху и ее деятелей свою собственную, современную психологию, политические, социальные, моральные воззрения, искажая изображение и понимание прошлого. «Бледным произведениям» подражателей В. Скотта (имеется в виду прежде всего роман А. де Виньи «Сен — Мар») противопоставляется роман Загоскина «Юрий Милославский», автор которого, по мнению Пушкина, «точно переносит нас в 1612 год»: «Добрый наш народ, бояре, казаки, монахи, буйные шиши — всё это угадано, всё это действует, чувствует, как должно было действовать, чувствовать в смутные времена Минина и Авраамия Палицына» (XI, 92).
Не касаясь вопроса, насколько прав был Пушкин в своем очень положительном отзыве о романе Загоскина, следует обратить внимание на то, что хвалит он в «Юрии Милославском»: верное своему времени изображение разных социальных групп, разных слоев народа, составляющих не условный эффектный декоративный фон, но активно действующих персонажей, принимающих непосредственное участие в развитии действия романа. К этому стремился и сам Пушкин и достиг этого в несравненно большей степени, чем Загоскин.
Однако же положительный отзыв Пушкина о «Юрии Милославском» касается лишь массовых сцен и представляющих народные массы вымышленных персонажей. Несравненно труднее и ответственнее для романиста изображение исторических деятелей — и тем труднее, чем значительнее и сложнее эти деятели. В той же рецензии на роман Загоскина Пушкин отметил слабость изображения исторических лиц, в особенности Минина, речь которого на нижегородской площади слаба, потому что «в ней нет порывов народного красноречия» (XI, 93). За пренебрежение к исторической истине, за допущение «нелепых несообразностей» ради «эффектной сцены» Пушкин резко и строго критиковал драму В. Гюго «Кромвель» и роман А. де Виньи «Сен — Мар», бывший для него своего рода образцом натянутости и нарушений исторической правды.[245]
Сам Пушкин применил требование психологической правдивости в изображении исторических лиц уже в своем первом историческом романе — в «Арапе Петра Великого». Здесь, однако, личность Петра, несомненно, идеализирована, что зависело от концепции автора; это не влекло за собой прямого нарушения исторической истины в психологии Петра, но сделало его изображение односторонним.
Несколько позднее, отвечая критикам «Полтавы», упрекавшим его в искажении и неисторичности характера Мазепы, Пушкин писал: «Мазепа действует в моей поэме точь в точь как и в истории, а речи его объясняют его исторический характер» (XI, 164; ср. 158).
Наконец, в приводившейся уже рецензии на «Юрия Милославского» Пушкин сформулировал и еще одно — очень существенное — требование к историческому роману, выполненное, по его мнению, Загоскиным: «романическое происшествие», т. е. сюжет в собственном смысле, строящийся на судьбе внеисторических персонажей и на их личных взаимоотношениях с историческими лицами, «без насилия входит в раму обширнейшую происшествия исторического» (XI, 92).
Эти основные принципы исторического повествования, намеченные Пушкиным в разное время и по разным поводам, были им в полной мере — осуществлены в последнем его романе. «Капитанская дочка» явилась, несомненно, самым зрелым, продуманным и законченным произведением пушкинской реалистической романистики.
4Работа над романом о Пугачевском восстании, продолжавшаяся в общем почти четыре года, ставила перед Пушкиным ряд труднейших задач, в которых неразрывно сплетались моменты художественного порядка с идеологическими и историческими.
Как известно, историческая основа — вся предыстория и история восстания от его зарождения среди яицких казаков до его кульминации в виде общекрестьянской войны в приволжских и центральных губерниях и до поражения и казни Пугачева — была разработана Пушкиным одновременно с романом в «Истории Пугачева». В этом «несовершенном», но «добросовестном» труде автор документально, сжато и «с осмотрительностью» изложил известные ему факты в их последовательности, и это облегчило ему решение собственно исторических задач в романе. Подобный параллелизм и прямая связь в творчестве одного писателя между научным исследованием и художественным произведением представляют собою едва ли не единственный случай в истории мировой литературы. Но если собственно историческая задача была облегчена и подготовлена для романа историческим трудом, то перед романистом вставали и требовали решения и другие, самые сложные проблемы, проблемы воссоздания и художественно — правдивого воплощения психологии его героев, от рас- сказчика — офицера до вождя восстания, от рядовых защитников дворянско — крепостнической империи до массовых участников народного движения.
Сложность заключалась в том, что изображаемая эпоха отстояла от времени создания романа на шестьдесят лет, т. е. на два поколения и даже более; она была отделена от пушкинской современности рядом крупнейших историко — политических событий конца XVIII — первой трети XIX века. Но вместе с тем это была и эпоха настолько еще близкая, что многие современники и свидетели ее были живы, помнили «Пугачевщину» и рассказывали о ней Пушкину (И. И. Дмитриев, И. А. Крылов, старуха — казачка в Бердах и др.). Оставались почти без перемен и социальные отношения, существовавшие в эпоху восстания и вызвавшие его. За протекшие шестьдесят лет типические черты представителей правящего класса, т. е. среднего и высшего дворянства (по крайней мере его лучших, наиболее культурных представителей), существенно изменились, и не легко было воссоздать психологию такого персонажа, как Петр Гринев. А столь же типические, основные, веками сложившиеся черты людей из народа — крестьян, дворовых, солдат, казаков — сохранились и в пушкинское время такими, какими они были в третьей четверти XVIII века, поскольку не изменились существенно общественные отношения, определявшие их психику.