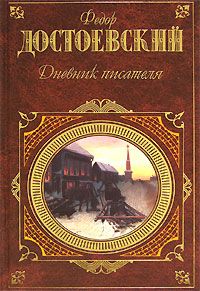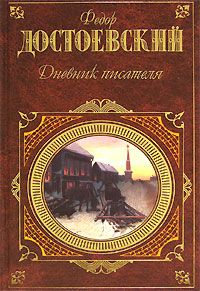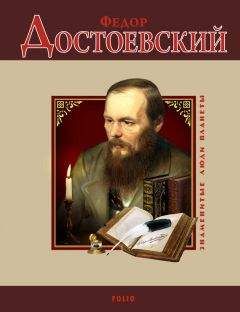Самуил Лурье - Такой способ понимать
Вообще-то бывает, как сказано в одном стихотворении Анненского (тоже 1907 г., тоже поздняя осень), бывает такое небо, такая игра лучей, что сердцу обида куклы обиды своей жалчей…
Но эта, восковая, в прозрачном гробу — была буквальная, грубо материализованная цитата из «Стихов о Прекрасной Даме». Судьба в который раз напоминала Блоку, что когда-то, не так давно, он был не просто поэт, но единственный в мире обладатель самой важной в мире тайны.
Настоящее имя Прекрасной Дамы было — Ты и обозначало Разгадку Всего, недоступную словам, как смерть от счастья, как любовь богини.
Неизвестно, что это было — космическое прельщение, литературная галлюцинация… Швейцарский ученый Карл Юнг пишет об участившихся в двадцатом веке явлениях Богоматери как о фактах несомненных. Дескать, это Коллективное Бессознательное играет с человеком. Салтыков-Щедрин в свое время трактовал подобные состояния проще:
«Юноша с пылким, но рано развращенным воображением испытывает иногда нечто подобное: он сидит над книжкой, а перед глазами его воочию мелькает фантастическая женщина; он очень хорошо знает, что женщины тут никакой нет, а есть латинская грамматика, но в то же время чувствует, что в жилах его закипает кровь… А рот у него облепили мухи», — присовокупляет злобный Салтыков — и попадает пальцем в небо. По крайней мере, Блок был в высшей степени аккуратный человек.
«От мух советую, — писал он Евгению Иванову в 1906 году, — купить пачку бумажек „Tanglefoot“ — к ним мухи прилипают, и тогда ощущаешь нечаянную радость от их страданий; избиению их, поджиганию свечкой и прочим истязаниям я также посвящаю немало времени».
Не важно, по каким причинам и как перепутались мечты и обстоятельства.
Важно, что видения повторялись все реже, потом вдруг совсем прекратились.
Эту утрату Блок оплакивал как Ее смерть.
Ты покоишься в белом гробу,
Ты с улыбкой зовешь: не буди.
Золотистые пряди на лбу.
Золотой образок на груди.
Я отпраздновал светлую смерть,
Прикоснувшись к руке восковой…
С тех пор этот вальс в нем не умолкал. В чаду алкоголя и пошлости словно кто-то дразнил Блока призраком забытой тайны; вот как в этом кабинете восковых фигур — или годом раньше в привокзальном ресторане… Вы думаете: случайность? Нет — хохот из бездны. Вы думаете: мания преследования? Нет — символизм.
Оставалось: притворно смеясь над разбитыми иллюзиями, отомстить за них собственной гибелью — то есть моральным падением.
«Люблю гибель, любил ее искони и остался при этой любви… Ведь вся история моего внутреннего развития „напророчена“ в „Стихах о Прекрасной Даме“».
Иначе говоря: отняли любимую куклу — тем хуже для кукол нелюбимых.
Гибнуть, катаясь на тройках, — словно Настасья Филипповна… Убивать себя пьянством и так называемой страстью — истерикой похоти — любовью без любви.
И стало все равно, какие
Лобзать уста, ласкать плеча,
В какие улицы глухие
Гнать удалого лихача…
И все равно, чей вздох, чей шепот, —
Быть может, здесь уже не ты…
Лишь скакуна неровный топот,
Как бы с далекой высоты…
Так — сведены с ума мгновеньем —
Мы отдавались вновь и вновь,
Гордясь своим уничтоженьем,
Твоим превратностям, любовь!
При оформлении в советскую литературу все это Блоку засчитали как протест против реального капитализма. В общем, это верно. Как замечал по сходному поводу упомянутый Салтыков: «…протестуют потому, что сердца своего унять не в силах. „Погоди ты у меня, — говорила одна барыня (она была тогда беременна) временнообязанному своему лакею, — вот я от твоей грубости выкину, так тебя сошлют, мерзавца, в Сибирь!“ И говорила это барыня искренно, и желала, ох, желала она выкинуть! чтобы потом иметь право написать, что вот она выкидывает (конечно, без особенно скверных последствий), что Ваньку за это судят и ссылают в Сибирь…»
Я гибну — так тебе и надо! — плачь, низкая действительность, плачь!
И страсти таинство свершая,
И поднимаясь над землей,
Я видел, как идет другая
На ложе страсти роковой…
И те же ласки, те же речи,
Постылый трепет жадных уст…
Участь, что и говорить, трагическая. Как тяжело ходить среди людей и притворяться не погибшим в таких условиях. Но именно в этой тональности: надежды нет, и не нужно счастья, и только из гордости терпишь унизительную необходимость отвечать на поцелуи, а заодно и всю мировую чепуху, — стихи звучат как следует, как диктант Музы. Долг перед Искусством и Родиной велит идти навстречу Судьбе до конца: в цирк, в ресторан, в дом терпимости. И вечный бой! Покой нам только снится. Вы говорите: маменькин сынок? Нет — искуситель, демон, падший ангел!
«Кто я — она не знает. Когда я говорил ей о страсти и смерти, она сначала громко хохотала, а потом глубоко задумалась. <~> Женским <~> умом и чувством, в сущности, она уже поверила всему, поверит и остальному, если бы я захотел. Моя система — превращения плоских профессионалок на три часа в женщин страстных и нежных — опять торжествует».
«Я опять на прежнем — самом „уютном“ месте в мире — ибо ем третью дюжину устриц и пью третью полбутылку Шабли»
«Я обедал в Белоострове, потом сидел над темнеющим морем в Сестрорецком курорте. Мир стал казаться новее, мысль о гибели стала подлинней, ярче („подтачивающая мысль“) — от моря, от сосен, от заката».
Такая жизнь ожесточает сердце. Приступы страха, приступы злобы, повсюду мерещатся угрожающие взгляды, торжествующие ухмылки. Сжигает ненависть к благополучным…
Если человека несказанно радует известие о катастрофе «Титаника» («есть еще океан!») — через несколько лет ему, конечно, Февральская революция в России покажется пресной, постной. Чту значит сжиться с мыслью о личной гибели! — чужую допускаешь (в теории) хладнокровно: «…нисколько не удивлюсь, если (хотя и не очень скоро) народ, умный, спокойный и понимающий то, чего интеллигенции не понять (а именно — с социалистической психологией, совершенно, диаметрально другой), начнет так же спокойно и величаво вешать и грабить интеллигентов (для водворения порядка, для того чтобы очистить от мусора мозг страны)…»
Как известно, тогдашний Цезарь вскоре воспроизвел эту мысль поэта — слово в слово (чуть резче: «это не мозг, а — —»). И осуществил его предчувствия. Поэт действительно погиб. А Цезарь помещен в паноптикум печальный.
МЕХАНИКА ГИБЕЛИ
Есть одно место в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», где фабула расходится по шву. Зияет прореха, но почти всем удается ее как бы не замечать. А место важное: окончательно разъясняется тайна судьбы заглавного героя — кто, по какой причине, какими средствами погубил его.
Ну, вы помните: нескончаемая ночь полнолуния. Князь тьмы ужинает при свечах в тесной компании приближенных и слуг, и Маргарита приглашена, присутствует, участвует. Вдруг застольная болтовня прерывается, запнувшись якобы невзначай за некое ненавидимое имя. Одно дело попасть молотком в стекло критику Латунскому, — замечает небрежно и не очень-то кстати Азазелло, рыжий демон, — и совсем другое дело — ему же в сердце.
«— В сердце — восклицала Маргарита, почему-то берясь за свое сердце, — в сердце! — повторила она глухим голосом.
— Что это за критик Латунский? — спросил Воланд, прищурившись на Маргариту.
Азазелло, Коровьев и Бегемот как-то стыдливо потупились, а Маргарита ответила, краснея:
— Есть такой один критик. Я сегодня вечером разнесла всю его квартиру.
— Вот тебе раз! А зачем же?
— Он, мессир, — объяснила Маргарита, — погубил одного мастера».
Но спрашивали Маргариту, оказывается, вовсе не о том, и это подчеркивают, обернув окончание одной фразы — началом другой:
«— А зачем же было самой-то трудиться? — спросил Воланд».
И выходит так, будто его перебили, — а ведь он нарочно выдержал паузу, не правда ли?
Вообще — обратите внимание, хотя это несколько в стороне от нашего сюжета, — с бедной женщиной тут играют. Ее испытывают. Ее, собственно говоря, искушают, — причем с изощренным коварством. Она ведь еще не предупреждена, что вправе просить у Воланда («потребовать, потребовать, моя донна, потребовать») чего угодно, — но только чего-то одного — «одной вещи». Это откроют ей перед следующим испытанием, а сейчас все выглядит так, что стоит Маргарите кивнуть — да просто смолчать! — и новые друзья с удовольствием и немедля исполнят желание, о котором она вроде бы сама только что проговорилась: