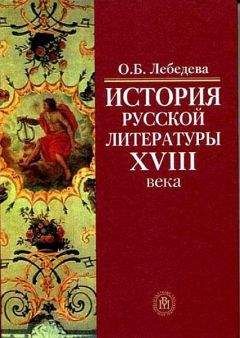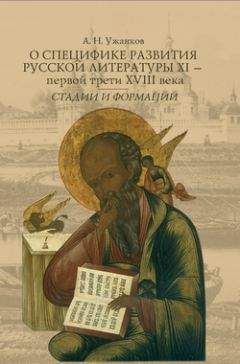Ариадна Эфрон - История жизни, история души. Том 3
«Чувство узнавания — удивительная вещь. Не по тому, что видано, читано, не по книгам, картинам, картинкам, кино, - скорее вопреки этому всему узнаёшь. То, что заранее представлял себе, к чему себя готовил, вначале даже мешает, получается нечто вроде двойного зрения, но это смещение скоро проходит».
«Чувство колыбели; не родины, а пра-отечества».
«Принято считать, что там умеют беречь красоту. Мне кажется — это неверно. Там, где красоте ничто не угрожает, кроме течения времени, людям нет нужды её беречь — с ней сосуществуют, как со всем привычным. Поверьте, нигде в мире её не берегут и не отстаивают так отчаянно, голыми руками, как у нас, в России...»
«Писать о поездке? О, нет! Упаси боже от туристической прозы... По тем дорогам, — как и по всем иным! — надо долго ходить пешком и не одни подмётки сносить, прежде чем отваживаться писать “путевые впечатления”».
В течение последней болезни Казакевича я часто бывала у Маргариты — от неё узнавала о его состоянии. А состояние его было одно — мужество.
- Он так внутренне - неизменен, так по-всегдашнему умён, остроумен, даже весел, что, когда с ним говоришь, порой отвлекаешься от той, главной мысли — и теряешь бдительность... — рассказывала она.
Близкие отбивали Казакевича от смерти. Маленькая, хрупкая - в чем душа! — Маргарита превратилась вся в совершеннейшее оружие обороны и нападения, прикрывая собой любую щель, любую брешь, в которую врывался — или просачивался — противник. Круглые сутки не спал телефон. Он живым мускулом, живой жилой связывал обе квартиры и - дальше, Маргаритиным протяжным голоском добивался и добывал - надежду, лекарство, луну с неба.
Луну с неба! Я видела, как она заглядывала в окна. Маргарита рассказывала, что дочка её, когда была маленькая, думала, что сколько окон, столько и лун, и, конечно же, была права... Теперь обе её девочки выросли, у каждой была своя жизнь и своя луна, ничего общего не имевшая с той, что целилась в Маргаритино окно. Телефон звонил, Маргарита спешила к нему, я же, холодея, оглядывалась на луну.
В те дни вокруг Маргариты обесценилось всё вещественное, привычное, нужное, но не имевшее непосредственного отношения к болезни Эммануила Генриховича. Всё, кроме телефона, да ещё холодильника, в котором лежало что-то, что больной, может быть, захочет хотя бы попробовать, - утратило значение и смысл, несмотря на то, что на стульях - сидели, на постелях — спали, что, как обычно, в ходу были и кастрюли и тарелки и что быт — продолжался.
Жизнь шла в сукнах и не нуждалась в декорациях и аксессуарах; трагедии вообще не нуждаются в них. Даже письменный стол поэта перестал существовать, а только казался — что говорить о прочем! Всё, не бывшее бедой или борьбой, ими вытеснялось.
Мне очень хотелось увидеться с Казакевичем, но я боялась помешать, уж коли не могла помочь. Маргарита сама вызвалась узнать у него, хочет ли он меня видеть, у Гали - не утомит ли его мой приход. Они сказали, что прийти можно.
Это было днем, кажется, в первой его половине. Погода стояла отвратительная, лил и лил дождь. Я пришла к Маргарите, пообсохла немножко. Она позвонила к Казакевичам — Галя ответила, что ждут нас через полчаса. Выпили по чашке кофе, поговорили о постороннем — Маргарита недавно вернулась из Японии (болезнь обострилась в её отсутствие), я — только что из Латвии. Разговор вяло цеплялся то за Латвию, то за Японию, а взгляд — за какую-то чужедальнюю, из фонариков или из зонтичков сооруженную анилиновую безделку, made in Japan. Потом оделись и пошли; пока сидели, были почти одинаковые, а встали, и снова меня пронзила Маргаритина малость и птичья худоба, рядом с ней я чувствовала себя шкафом...
Спустились с лестницы, Маргарита помедлила в подъезде и, глядя в сторону, с усилием произнесла:
— Он очень изменился. Пожалуйста, не показывайте вида, что это заметили; и ещё: не говорите ни о чём неприятном...
— Что вы! Об этом можно было и не предупреждать...
- На всякий случай...
Во дворе метался ветер, дождь бил по горизонтали, не с неба, а от стены корпуса к стене, двор гудел и, казалось, раскачивался, как колокол, и этот колокол мы переходили вброд, молча. Молчали и в лифте.
Маргарита толкнула (незакрывавшуюся, чтобы не беспокоили звонки) дверь в квартиру Казакевичей. По коридору шла нам навстречу Галя, быстро, но так неслышно и бесплотно, будто по воздуху. Грубая седина спутала ей волосы, от лица ничего не осталось, его сожгли, съели глаза. Меня потрясла их зияющая, не отражавшая света, сухая чернота. Мы обнялись, не проронив ни слова. Вошли в столовую, неузнаваемо загромождённую мебелью, выставленной из комнаты Эммануила Генриховича. По столовой, как ткачиха между станками, бесшумно сновала женщина в белом халате - стенографистка Казакевича, ставшая его нянькой, санитаркой, сестрой, — когда беда навалилась на этот дом. То была уютная, вся какая-то плавная, женщина, с прекрасным, полным терпения и любви лицом матери; сейчас по нему, сверху вниз, как слёзы, струились тени. Мы все переглянулись; говорят — «читать в глазах», «говорить глазами»; какое там чтение, какая речь! Эти глаза - в глухонемой тишине - вопили.
Но, стоило нам перешагнуть порог комнаты Эммануила Генриховича, и глаза стали как глаза, и лица как лица. Открывшаяся и снова затворившаяся дверь действовала как переключатель.
Посередине и поперек неузнаваемо пустой комнаты, на белой кровати под белой простыней лежал жёлтый, как солнце, улыбающийся Казакевич, и я, едва увидев эту улыбку, тотчас обрела почву под ногами.
- Здравствуйте, А<риадна> С<ергеевна>, давно не видались, — сказал он милым своим, обычным, чуть запинающимся голосом,
протянул мне руку с закатанным по локоть рукавом и крепко, сильно, ладонь в ладонь пожал мою, — давно не видались. А я вот, видите, лежу. Садитесь же!
Я пододвинула стул и села у изголовья, спиной к выставленному и затянутому марлей окну. Маргарита устроилась на низенькой скамеечке, по другую сторону кровати. Галя постояла у изножья, прошлась по комнате, что-то переставила, что-то одёрнула; вставила несколько слов в разговор; увидев совсем неприметное движение Э<ммануила> Г<енриховича>, спросила сдержанно:
- Вот ты сейчас приложил руку к боку; что - болит?
- Нет, это я просто так, — ответил он, и их улыбки встретились. Все мы улыбались. Потом Галя вышла.
В комнате стоял рассеянный и пасмурный свет, чем-то странно знакомый; потом я вспомнила — такие были белые ночи у нас на Севере: непрозрачный свет, в котором растворялись тени.
Мыс Казакевичем открыто и с радостью рассматривали друг друга; именно радость мне, готовой к худшему, доставил его вид. Конечно, он похудел, но худоба эта казалась не болезненной, а какой-то мальчишеской, юношеской, чуть угловатой. Он был тщательно выбрит, «обихожен», подтянут, насколько только может быть подтянут лежащий. И это тоже было мужеством и сопротивлением. Движения рук были свободны, не скованы. И свободно покоились на высоких подушках голова и плечи. Вот только непривычны мне были дымчатые стёкла его очков, за которыми взгляд только угадывался, как в тумане. И, конечно, неправдоподобен цвет кожи.
- Мао Цзе Дун, — похвастался Эммануил Генрихович и обнажил золотую грудь; от неё, вниз к животу, шёл широкий, с палец, рубец шва. Казакевич был вспорот, как рыба. Но, Господи, насколько же он казался (был!) сильнее этого шва, и этой желтизны, и стерильной белизны простынь, и чистоты и пустоты комнаты, и кресла на колёсах, и костылей в углу, и покрытых салфеткой лекарств на тумбочке, и почти недоступного обонянию, но тревожащего запаха их, и назойливого уныния ветра и дождя за марлевым окном! Насколько он был достовернее всех нас, за порогом его комнаты превращавшихся в безгласных призраков, в тени его болезни!
- Как вы ухитрились загореть? В такой дождь?
- Да вот, была в Прибалтике...
- ...Загорели и стали похожи на эстонку. Правда, Маргарита? Откуда такая брошка с такой бирюзой?
- Вот именно «с такой». Эрзац-бирюза. Рижская. Зато там янтарь - настоящий. Набрала целую коробку. Хотите - поделюсь?
— Нашли чем. Только янтаря мне сейчас и недоставало! А вам в спину не надует из окна? Хотя — что я; после балтийских ветров...
И пошёл разговор — зигзагами, о том о сём, какой ведут собеседники, которым некуда спешить, у которых — много времени впереди. Только, может быть, чуть более шутливый, хотя говорили и о серьёзном: о книгах; о старших дочерях - Жене и Ляле; о том, что он, Эммануил Генрихович, каждый день встаёт и делает несколько шагов на костылях. Это очень трудно - учиться ходить, но надо, надо. Вот и сегодня он дошёл до столовой и обратно.
Потом Маргарита прочла наизусть эпиграмму на одного литератора, недавно сложенную Эммануилом Генриховичем, и он её слушал с равнодушным, однако чуть ревнивым, видом; тут мне вспомнилось, как однажды, на немудрящее моё замечание о некоем писателе, который «и мыслей своих толком изложить не умеет», Казакевич мрачно заметил; «Для того, чтобы уметь излагать, надо иметь что».